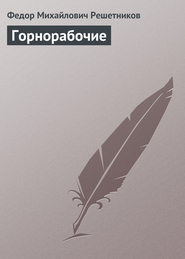По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Где лучше?
Год написания книги
1868
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Послушай, Назар Пантелеич! Если ты с нами так будешь вежлив, мы и к управляющему пойдем, – кричали бабы.
– Нет сегодня работы!!
– Если ты мужчин не заставишь складывать поленницы, мы к управляющему пойдем.
– Убирайтесь к черту! Кто поленницы рассыпал? Кто народ искалечил? – кричит смотритель, увидя охающих больных с перешибленными руками или ногами.
– Бабы!..
– Мужчины!!.
– Пошли вон! Свиньи!.. Везите в лазарет больных, – управляющий неравно приедет…
Мужчины пошли прочь, к варницам.
– Куда пошли? Эй, вы?! – кричал смотритель мужчинам.
Мужчины разбежались.
– Што, не правду мы говорим, што вы трусы?..
– Ну-ну! Каждый раз с вами мука. Идите к варницам, да этих уберите.
Все женщины стали к двери в варницу, откуда предполагалось носить соль по длинным, не очень крутым лестницам, тянущимся до амбара сажен на сто. Дверь была заперта. На одном плече у каждой женщины болтался мешок; большинство из них ели черный хлеб. Немного женщин держали в руках небольшие бураки с квасом. Все голосили, кто о чем хотел, но особенно о недавнем геройском подвиге; сожалений об изувеченных слышалось немного, потому что все были в таком настроении, что каждой хотелось непременно попасть на работу.
Пелагея Прохоровна стояла сзади Лизаветы Елизаровны. Она не участвовала ни в ссорах, ни в разговорах; ее удивляла смелость промысловых женщин и то, что они здесь имеют-таки превосходство над мужчинами. Особенно ее удивляли резкие выражения, бойкость и вертлявость Лизаветы Елизаровны, которая здесь не походила на хозяйскую дочь, девушку смирную, какою она ее видела дома в течение недели. А так как она молчала и женщины видели ее на промыслах в первый раз, то ей часто приводилось быть далеко от Лизаветы Елизаровны, которую она теряла из вида, но которая, впрочем, ее сама звала и потом держала то за руку, то за шугайчик, то за сарафан.
– Я тебе говорю, не отставай! Ототрут – не попадешь! – говорила она каждый раз.
Но вот подошел смотритель. Женщины старались выдвинуться вперед и оттерли Пелагею Прохоровну.
– Мокроносиха! – крикнула Лизавета Елизаровна, оглядываясь, – и, увидав голову Пелагеи Прохоровны аршинах в двух от себя, рванулась к ней, столкнув с мостков женщин десяток, и крепко схватила шугайчик Пелагеи Прохоровны.
– Какая ты разиня! Держись! – крикнула она сердито, толкая ее вперед.
– Да толкаются…
Вмиг Мокроносова с Ульяновой очутились перед смотрителем, который отбирал от женщин мешки. Сзади смотрителя стояли Терентий Иваныч, Григорий и Панфил Горюновы и двое других рабочих. По лестнице поднимались припасный, или приемщик соли в амбар, с огромными ключами и один рабочий.
– Куда ты ее поставила? Куда?!.
– По морде ее свисните, – голосили бабы, обращаясь к Лизавете Елизаровне.
– Ну-ко, попробуй…
– Ты, Лизка, опять буянить… А это што за баба? – спросил смотритель, оглядывая Пелагею Прохоровну и отбирая от нее мешок.
– Тебе што за дело!
– А баба ничего… Ну, на эту будет. Пошли туда!.. – проговорил он остальным женщинам с мешками.
– Назар Пантелеич! Родименькой!.. На эту… – голосили женщины.
– Ну-ну… Пошли! Считайте мешки!
И смотритель швырнул отобранные мешки к двери в варницу.
Терентий Иваныч стал считать мешки.
– Смотри: которые с клеймами, те только бери. Нет ли сшивок внутри, дыр?
– Все в исправности, – сказал Горюнов. Непринятые женщины побежали к другой варнице.
– То-то… Они, толстопятые, всегда все лестницы обсыпают, как снегом… Ну, сегодня вам плата по гривеннику за сто мешков.
Женщины заголосили.
– Ну, не хотите, так пошли прочь.
– Всегда четвертак платил…
– Ну-ну! Пятнадцать копеек – и делу начин. Начинайте благословясь.
И смотритель, не слушая криков женщин, стал отпирать варницу.
В варницу нахлынули чуть не разом все принятые сорок женщин, в числе коих оказалась принятою и Степанида Власовна, которую до сих пор ни дочь, ни Мокроносова не замечали в большой толпе.
На стене варницы, противоположной амбарам, были на большом пространстве начерчены мелом кресты и палочки. Некоторые женщины присели и стали есть, бесцеремонно захватывая соль с полатей; посыпав ее немного на куски, остальную заталкивали в большие карманы, заметно оттопырившиеся на боках сарафанов.
– Не нажрались еще, штоб вам треснуть! – говорил смотритель, отталкивая женщин от полатей.
– Начинай! Будет вам шалберничать-то, сороки!
Женщины похватали мешки, причем без криков не обошлось, потому что каждой хотелось свой мешок получить, но пришлось брать какой попало, так как смотритель торопил, бесцеремонно колотя по спинам баб.
Смотритель разделил баб на две смены, по двадцати в каждую. Начали насыпать мешки, потом весить соль в мешках. Смотритель требовал, чтобы каждый мешок тянул не менее двух пудов; излишек, как бы он ни был велик, то есть как бы сильно ни перетягивал двухпудовую гирю, не сбрасывался.
Теперь только и слышалось в варнице: поменьше сыпь! Скинь, Христа ради, – как перетянуло гирю… Ладно… упрешь! Толста больно… Поднимай!
Молодые Горюновы только и делали, что поднимали мешки на плечи женщин, и когда Лизавета Елизаровна поставила мешок на носок левого сапога Григорья Прохорыча, он ущипнул ее, да так больно, что она взвизгнула, а смотритель, захохотав, сказал:
– Што, Лизка, верно, не на нашего наскочила.
Лизавета ударила всей пятерней по лицу Григорья Прохорыча, так что у него на щеке образовалось четыре полоски с солью. Положив мешок на плечо, Лизавета Елизаровна пошла как ни в чем не бывало, но Пелагея Прохоровна почувствовала, что у ней мешок как-то не так, как у людей, лежит на плече, и кажется ей тяжела эта ноша.
– Ну-ну… Чево вертишься с мешком-то, не отставай, – крикнул смотритель и начертил на стене крест…
Этот крест означал число разов, или число мешков, этой смены.