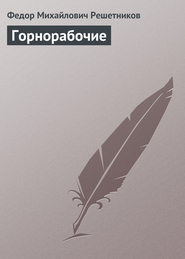По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Где лучше?
Год написания книги
1868
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Потом насыпанье соли для второй смены началось таким же образом. Эти женщины пошли к амбару тогда, когда на верхней площадке лестницы, перед дверями амбара, показалась женщина с порожним мешком на плече.
Все двадцать солоносок шли по лестницам врассыпную, в расстоянии друг от друга на сажень и на пять сажен. По многим из них можно было заключить, что они уже давно привычны к этому занятию и им нисколько не тяжела эта работа – подниматься постепенно с ношей кверху по скользким и шатким доскам. Ступеньки сделаны кое-как на крутых подъемах и поворотах. Все они идут скоро, держа одною рукою мешок, а другою размахивая или подперев бок. Одна только Пелагея Прохоровна отстала сажен на тридцать от них. Из варницы на нее крикнули, она вздрогнула; солоноски оглянулись и подняли ее на смех… Теперь уж не так тяжело ей, а только скользко. Ей так и кажется, что ноги у нее подкашивает, что ноги ее катятся, что она упадет, или вдруг переломится доска, и она провалится, а ухватиться не за что, – перил нет… И чем дальше она идет, тем резче ее пробирает ветер; чем выше она поднимается, тем больше увеличивается ее пугливость: она боится глядеть вниз, и только вид других женщин, уже возвращающихся с пустыми мешками, не позволяет ей вернуться назад или бросить мешки с лестницы и бежать с промыслов.
– Спаси, царица небесная… Дойду, может… – шепчет она.
Взошла она на верхнюю площадку; там перила сделаны, ухватилась за перила и остановилась.
– Обломай перила-те! Ишь, неженка какая! Мы почище тебя рожей-то, да не отдыхаем же.
«Будь оно проклято, житье!» – думает Пелагея Прохоровна и идет в амбар.
– Што, Мокроносиха, устала? – спросила вдруг Лизавета Елизаровна.
– Ой! голова кружится.
– Привыкнешь и на крышу влезешь. Скорее, пойдем вместе назад-ту.
Амбар имел вышины сажен шесть. В нем потолка не было, а только около стен на перекладины были положены доски; несмотря на то, что против двери в крыше сделано слуховое окно, ставень которого теперь был отодвинут, в амбаре все-таки было не совсем светло. Здесь соль не перевешивали, а двое рабочих только снимали мешки с плеч женщин, брали мешки за дно и вытряхали соль внутрь амбара, а припасный, сидя напротив дверей за небольшим столиком, на котором, кроме счет и листа бумаги, стоял еще графин с водкой, клал на счетах каждый мешок и каждую смену, отмечая на бумаге карандашом как самую смену, так и число мешков в смене, заставляя во время своей выпивки с холода водки погодить бабам ссыпать соль и часто путаясь поэтому в сменах, за что его, конечно, ругали, как кто умел.
Сперва все ходили скучные, оттого, что не совсем размяли свои члены. Через час женщины стали живее, скорее прежнего шли вперед к амбару и с подпрыгиваньями бежали назад. Все острили то над какой-нибудь неловкой женщиной, то над Пелагеей Прохоровной, ее дядей и братьями, о которых теперь уже все узнали, кто они такие, задирали на ссору, изощрялись в ловкости самим закидывать мешки на плечи, хохотали и старались, во что бы то ни стало, разозлить мужчин. Мало-помалу и Пелагея Прохоровна попривыкла и к ходьбе, и к ноше, и она сделалась сообщительнее; хотя ей и совестно было шутить с мужчинами, все-таки она ввернула два-три словца в отпор смотрителю, который на нее, как замечали солоноски, обратил милостивое внимание. И ей казалось весело носить соль после того, как она раз двадцать поднялась кверху; прежний страх прошел, так что она сама смеялась над своею трусостью. Одно ей не нравилось в это время – это то, что солоноски чересчур говорят нехорошие вещи… Чего-чего только они ни говорят о мужчинах, да и себя-то не очень жалеют. Такого свободного обращения, таких свободных выражений она и отроду не слыхивала в Терентьевском заводе. Правда, и там народ обращается свободно – в масленицу, на гуляньях, как, например, в троицын день, когда молодежь на горе березки хоронит, – так зато время такое, праздничное, а не рабочее. Стали попрекать Пелагею Прохоровну нехорошим житьем; Пелагея Прохоровна старалась молчать, понимая, что никаким ее оправданиям не поверят; наконец-таки, рассердили и ее, и она крикнула:
– Мало вы меня знаете, бессовестные вы эдакие!
Молодые женщины на смех подняли эти слова, а пожилые отстали.
Надоели женщинам остроты, насмешки, издеванья друг над дружкой; все начали чувствовать усталость, а отдыхать некогда: надо хоть сотню выверстать, а уж смотритель пошел обедать, значит, двенадцать часов, а всего снесено только по тридцати восьми мешков…
Затянула одна голосистая женщина на лестнице песню, песню подхватили еще три женщины – и запели все, исключая Пелагеи Прохоровны, которая не понимала этой промысловой песни про тяжелое промысловое житье, из которого выход только одна быстрая реченька, уносящая волюшку к милому дружочку, уплывшему куда-то в море-окиан, на остров хлебородный, на который бедную, несчастную рабу злые люди-лиходеи не пускают и, кроме того, ей про волюшку и об милом и думать не велят.
После того как смотритель ушел, женщины стали приставать к Горюнову, чтобы он не весил соль, на том основании, что припасный ее не перевешивает; Горюнов сперва не соглашался, но к женщинам пристали и рабочие, насыпавшие соль. Горюнов уступил и даже пять лишних крестов прибавил на стене. За это он так понравился всем женщинам, что они его превозносили до небес; Пелагее Прохоровне говорили, что дядя у нее отличнейший человек, а из девиц некоторые охотно заигрывали с его племянниками, из коих Панфилу прибавляли лишних три года, так как он на вершок только был ниже ростом Григорья.
Первая смена стала обедать, то есть есть ржаной хлеб, запивая его водой. В это время стали приходить в варницу взрослые парни. Появлению парней девицы обрадовались, потому что они теперь могли замениться ими. Парни вели себя чинно, стараясь ввернуть какое-нибудь мудреное словцо женщинам, не показывая, впрочем, вид, что оно произнесено для того, чтобы его похвалила его зазноба. Но это была вежливость вообще к дамскому полу: парни здесь не осмеливались подойти прямо каждый к своей подруге, начать с ней разговор, потому что это было неприлично, так как тут находились даже и матери нескольких девиц, и такого парня подняли бы на смех все женщины.
Пелагея Прохоровна сидела рядом с Лизаветой Елизаровной. Обе они посматривали на парней, но первая смотрела на них с любопытством, а вторая – с презрением. Пелагея Прохоровна заметила, что парни не вызываются сами носить соль, а напротив, их сами дамы вызывают.
– Поняла ли? Это наши кавалеры. Гляди, вон пятеро уж понесли, а вот те двое, што стоят – облизываются, с носом остались…
– Што так?
– Один-то с Одувановской все хороводился, да она сегодня о поленницу ушиблась… И стыда нет у человека: ведь знает, что она нездорова, пришел.
– А другой?
– Ну, тот погодит… У него губа больно толста.
И Лизавета Елизаровна с негодованием встала и пошла с Мокроносовой.
– Ох, вы, вахлаки! А еще парни прозываетесь, – сказала она Григорью Прохорычу, с неудовольствием взглянув на него.
– Собака, так собака и есть! – ответил Григорий Прохорыч.
– Осел! Нет, штобы заменить, – сказала Лизавета Елизаровна.
Григорью Прохорычу сделалось стыдно, и он, когда сестра и Ульянова подошли к нему, сам вызвался нести за Лизавету Елизаровну соль.
– Давно бы так! А ты неси за сестру, – сказала Лизавета Елизаровна Панфилу.
Мокроносову и Ульянову заменили молодые Горюновы, но Панфил сходил только два раза: больше идти у него не хватило сил; поэтому обе женщины стали чередоваться. Два парня, про которых говорила Пелагее Прохоровне Лизавета Елизаровна, долго стояли около двери варницы, как оплеванные, и молча переносили насмешки.
Один из них было попросил Лизавету Елизаровну нести за нее соль, но она ему сказала:
– Не стоишь! У меня другой есть помощник.
– Ну, погоди!.. Каков ни на есть, дам твоему помощнику.
– Не беспокойтесь, пожалуйста.
– Ноги я ему обломаю. – С этими словами парень ушел.
В одну из смен Лизавете Елизаровне пришлось идти сзади Григорья Прохорыча.
– Што, небось устал? – спросила она его.
– Ничего.
– То-то и есть! Ваше дело только хвастаться… Только и слышно от мужчин: ох, как чижало! А вот мы и бабы, да не говорим, што нам тяжело.
Григорий Прохорыч только промычал. Тем и кончился разговор в эту смену.
В другую смену женщины запели песню, им подтягивали и парни, голоса которых резко отличались от женских голосов. Лизавета Елизаровна пела немного, она часто останавливалась, прислушиваясь, поет или нет Горюнов.
– Ты што ж не поешь? Али горлу твоему тоже чижало?
– Как бы умел, запел бы…
– Ну, и парень! Чему вас в заводе-то обучали?
– У нас другие песни, на другой голос.
– Ну-ко, спой!
Горюнов не стал петь.
К вечеру стали появляться на варницах и мужчины – братья, дяди и мужья, покончившие с работами на других варницах; в числе их было шесть человек возчиков и Елизар Матвеич, который обыкновенно приезжал с кордона прямо в варницы, так как дорога до дома шла мимо промыслов.
– Дайте-ко, бабы, мы поносим, разомнем косточки, – напрашивались мужчины, бесцеремонно хватаясь за мешки. Женщины хотя и изъявляли свое неудовольствие за то, что мужчины не в свое суются дело, однако с радостью отдавали мешки и садились, говоря:
– Ох, устала!