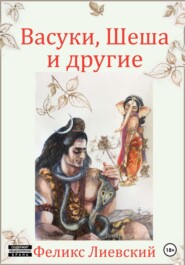По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царская чаша. Книга 2.1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нянька, отдыхая от сегодняшнего волнения, сложивши на переднике руки, восседала на застланной тёплым ковриком лавке и размеренно, точно дьячок в прицерковной школе[4 - Распоряжением царя Ивана IV и под присмотром митрополита с 1567 года было велено устраивать школы при монастырях и церквях, в которых могли бы по желанию родителей обучаться азам грамоты и счёта, а также Закону Божию, все способные к этому дети, вне зависимости от сословия. Государственная машина управления через местные Приказы требовала всё большего числа грамотных чиновников и делопризводителей. Также было постановлено учреждать при этих заведениях ремесленные классы, иконописные и певческие школы.], начитывала княгине, тоже в который раз:
– Матушка моя, ну к чему же сразу изъян! Сама суди, вот как Танька говорит, что дай Бог день на неделе молодые вместе спать ложатся, и встают вместе, а почему? А потому, что то он на службе, то день постный, то не пост – да он укатил в Слободу на десять дён, то дома он – да недужила она простудою, то подол в красных цветах, а там опять – служба, пост или ещё чего. Ну и конечно, некогда им было побыть как следовать, обстоятельно то есть.
– И что же, за всё время ни дня единого не выпало так, чтобы удачно?
– Стало быть, не выпало, да.
– Ой, не знаю, ну дай Бог, чтоб в этом только дело. А надо всё равно от сглазу осторожиться бы. Чую, завистники это.
– Я Таньке наказала про то Вареньке намекнуть. Не помешает…
– Спасибо тебе, Тимофеевна, только ты меня и утешаешь… Ой, что делать, не знаю, с Василием Андреичем тоже. Ты подумай! Федю в поход брать решил! Зачем это, куда спешить-то! Мал ещё… Все разъедутся, один Ванюша при мне и останется… – и княгиня заново по кругу пошла перебирать все напасти. Вскоре она ослабела, сказалось недомогание после той тяжкой болезни грудной, и была уложена Тимофеевной в постель, с кружкой горячего брусничного питья с мёдом, отдыхать до утра.
По возвращении и княжна почувствовала себя уставшей смертельно. Во дворе продолжали грузиться третьи сани, в кухне всё что-то бряцало и ухало, топот ног и сдержанные переговоры по всему дому, кроме теремной части его, не умолкали. Наперво брали и провизии, и конского корму, а там от царицына двора по росписи будет довольство всей женской половине семейства с людьми отдельно.
Уложивши самолично украшения свои, которых набралось на целый большой и три малых ларца, и венчальные рубахи с поясами, к коим никому она даже прикасаться не позволяла, все гребни, зеркальца, щёточки, щипчики и ножнички, а также туес рукоделия и ларь с книгами, прочее всё поручила заботам своих девушек. Сама же пошла на голос Арины Ивановны где-то в её половине, узнать, не помочь ли чем.
– Варенька, ты ступай, спасибо, милая, я уж тоже на сегодня завершусь, а завтра у нас целый день ещё. Главное всё собрали, кажется… – Арина Ивановна, воодушевлённая скорым возвращением в любимое Елизарово, сама себя превзошла в живости участия в этой кутерьме, но и она выбилась из сил, и сидела на краю своей постели, осматривая изрядно опустевшую горницу прекрасными утомлёнными очами, к которым так шёл её новый персидский кашемировый палантин изумрудной зелени, подаренный недавно сыном. – Ну а уж что забыли, с оказией доведёт кто потом… А Федя-то наш где? Отыщи его, да пришли ко мне, душа моя, на два слова… И Пете уж скажите тоже, пусть угомонится, коли всё своё собрал, без него управятся. Ему б только не спать, а гонять до упаду…
Ничего радостнее такого поручения за весь день не было. Она побежала вниз, ликуя, и почти сразу попала в объятия мужа, как раз навстречу шедшего. И здесь, в полутьме перед лестницей, они задержались, без слов, только с горячим дыханием и блужданием рук, и касаниями губ, и было в этом что-то воровское, скрытное, нарочито дерзостное, будто они не супруги законные, а парень с девкою, которых Лад застал внезапно в чужом доме… Кто-то прогрохал сапогами мимо проёма сеней, таща припасы наружу к возам, и голоса прошли совсем рядом, и они оторвались друг от друга, задыхаясь и улыбаясь, и как раз показались Таня с Нюшей. И замерли.
– Фёдор Алексеич, – молвила княжна, принимая спокойный деловитый вид и поправляя убрус, – матушка зовёт тебя сейчас, и вели после всем там потише – она почивать ложится. И Петру скажи, мать просит не шалить в ночи, а тоже спать идти. Таня, идёмте со мной, если всё завершили, будем и мы укладываться, – и она пошла вверх, девушки – за ней, а Федька отлепился от бревенчатой стены с блаженной полуулыбкой, направляясь вслед, только наверху свернул в другое крыло.
Ни о чём таком Арина Ивановна ему сказать не хотела, а только посмотреть на него близко, как прежде бывало, когда сидел он у её ног, а она его кудри дивные причёсывала. Вот и сейчас так было.
– Ангел мой! Поди, сядь, а я причешу тебя… Завтра уж в дорогу… Так Петю вы мне оставляете, стало быть?..
Малое время спустя он вышел, и тут, у сеней средних, его поймала тихим окликом Татьяна. Поманив приблизиться, глаз на него не поднимая, сказала, что госпожа её наказывает ему нынче двери не запирать…
Внизу он распорядился всем угомониться, крикнул Петьку, и отправился с ним по спальням. На пороге своего с Терентием закута Петька схватил брата за руку с горящими глазами.
– Чего ещё?
– Слушай, так с кем я поеду?
– С нами, с Сицкими поедешь, так и быть. Коня сам приготовишь, и всё своё, и после уж не ныть.
Петька кинулся ему на шею, целуя в обе щеки.
– А ещё… Можно к тебе сейчас зайти?
– Зачем?
Он как бы замялся, и за поворотом прохода померещилась тень верного Терентия.
– Ты всё занят, и теперь уедешь невесть насколько…
– Да в чём дело-то?
– Ты ведь был там, на Болотной? Казнь видел?
– Видел, – помедлив, отвечал он, сразу потемнев ликом.
– Расскажи!!!
Болезненный жгучий интерес этот не удивил Федьку, конечно. Всё самое страшное всегда манит непонятным противным любопытством… Особенно по неведению.
– Нечего там рассказывать, скорбь да кровь. Спать ступай!
– Ну Федь!..
– Иди, сказал. Или с мамкой в возок засажу!
С досадливым вздохом тот удалился к себе.
«Как бы до блевоты не насмотреться!» – проводивши его взором помрачневшим, шагнул за порог спальни.
Постепенно всё стихло.
Перебрёхивались только собаки лениво, какое-то время что-то звякало на обширном дворе, заполненном теперь санями с добром. Ночь пала тихая. Опять выяснило, и весна как бы застыла, прикинувшись незарождённой ещё…
Выплыла огромная Луна, безупречным кругом глянула в окна и затопила всё, до чего могла доглядеть.
Княжна, укутанная в шубку и шаль, выскользнула на цыпочках из светлицы, привторив за собой дверь. Под ней скрипнула всего одна ступенька.
Приблизившись к его двери, с колотящимся сердцем, изнемогая от счастья, она толкнула чугунную ручку, дверь подалась. Она впорхнула, затворила быстро за собой, и шагнула к его постели. Залитой белым, как вчера. Он молча лежал, закинув за голову руки, и смотрел на неё. Сбросив шубку и шаль, скинув черевики, она поднырнула под полу одеяла, и сразу же прижалась, согреваясь. Очень скоро им стало жарко.
В последнем перед рассветом часу она проснулась от незнакомого звука, и это оказался стон, мучительно прорывающийся из тенет сна, и сон тот был явно тяжек. Он не мог очнуться от какого-то видения, и она поспешила потрясти его за плечо, негромко зовя по имени. Сон оборвался, черты его не сразу разгладились, и глубокий вздох проводил его тяжесть.
– Что, Федя? Что такое? Ты стенал так страшно…
– Да? Спасибо, что разбудила… – он повернулся к ней и прикоснулся губами к руке, гладившей его по щеке.
– Что снилось-то? Надо до обеда рассказать, чтобы не сбылось…
– До обеда расскажу… Спи, радость моя.
Весь следующий день прошёл без него.
Ночь кое-как провелась.
Затемно пробудились, сразу стали собраться. Как раз в ворота въезжал воевода Басманов с боевым отрядом. Все расположились на быструю трапезу. Потом воевода занимался своими распоряжениями по обширному подворью и дому, оставляемому на время на ключника-управляющего (Буслаев, как всегда, ехал при Басманове), переговорил наедине с женой, с Федькой, и все занялись окончательными последними сборами. Предполагалось, что Басманов поспешит вперёд, чтобы упреждать к приёму государя те обители, где он намеревался остановиться, и особенно – новый дворец в Вологде, ещё наполовину готовый. Проводивши оттуда государя в дальнейший путь к Кирилло-белозерскому монастырю, надлежало воеводе вернуться в Слободу, и оттуда чутко следить за всем, что будет происходить в окрестностях Москвы и не только в отсутствие государя.
Посидели на дорожку. Поклонились красному углу, после – дому, хоть никому и не родному, и сани чередой начали выворачивать за отворенные настежь ворота… Последним выехали возки Арины Ивановны и княжны и девушек, державших при себе всё, необходимое им и боярыням в путевом обиходе, и замыкали небольшой поезд четверо людей Басманова верхами. Растянутый на всю улицу, он полз в сторону Неглинки, и в других подворий Москвы подобные, поменьше только, потянулись туда же. Все, кто должен был сопровождать государя в этом пути, подтягивались к месту сбора, ставали по набережной и ближним ко дворцу пустырям, согласно очерёдности следования в общем поезде царском. Можно было насчитать около трёхсот опричников верхами, готовящихся также сопровождать государя в дороге, что было заметно больше, чем обычно бралось для охраны. Ожидали выхода государя с царицей, царевичами и провожатым духовенством после молебна утреннего. Там, у царского возка, Федька и занял своё законное место. Колокола торжественно звонили, оповещая Москву и посады том, что Великий государь отправляется совершать положенное паломничество ко святыням, где будет просить о благополучии всей русской земли и спасении души своей и душ, вверенных его заботам. Многие монастырские звонницы отвечали почтительным отголоском.
Федька так и не рассказал сон. Во-первых, некогда было. Но главное, потому не рассказал, что даже в себе противился восстановить его пренеприятные моменты, и уж тем более ни к чему этим было омрачать сердце молодой жены, в канун отъезда тем более, и без того волнительного для неё.
А привиделся ему Малюта, таким, каким встретился в застенке Беклемешевой башни, месяц примерно назад, куда государь пожелал идти сам, дабы выслушать, что напоследок молвить желают приговорённые. Колебаний в нём не было, как видно, хоть с самого начала слабо верилось, что до этого дойдёт. Положа руку на сердце, Федька и сам не мог сказать твёрдо, настолько ли уж суровость приговора равна степени вины… Но тут, видимо, иные рассуждения брали верх. Иоанн беспощадно обрывал тем самым в верхах старомосковского боярства, что за Соборным решением стояло, а после хитроумно челобитную ему подсунуло, всякую надежду на лёгкую над собой победу, на то, что смогут они и далее, от него втайне, за спиною его, пытаться править. Не смогут, пока жив он и в силе. А сила это, кроме прочего, доказываться ещё и властною волей должна. Царь один, суд – един, и пусть пытался протопоп Сильвестр некогда внушать ему о первенстве суда церковного над мирским, этому не бывать. Если б Собор единым порывом встал на защиту обвинённых, то не стал бы царь, разумеется, со всем своим синодом ссориться. Но Собор молчал, и единым отнюдь не был, выражая мнение иных сдержанно через митрополита. К слову, вынесено было обсуждение на суд боярский, по всем правилам, и никто, никто не возразил… Как и полагал Иоанн, злорадно и сокрушённо одновременно, раз уж дело у них не выгорело, предпочли откупиться от гнева его этими тремя.