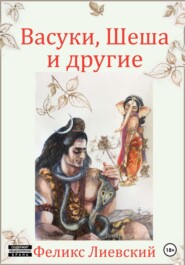По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царская чаша. Книга 2.1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но, может, и поспорили бы с царём те же Шереметевы, Шуйские и Старицкие, и сами Пронские, как не раз бывало, да внезапно талантливым новым дознавателем, Григорием Лукьянычем Скуратовым, никому прежде не известным сотником из-под Новгорода, подвизающемся, по слухам, на сыскной службе Чёрного Пимена, епископа Новгородского, были явлены суду доказательства изменных намерений такого свойства, что пришлось им языки прикусить.
Помня гнетущее впечатление от застенков, и прямо кошмарное – от их содержимого, Федька заведомо изготавливался к крепости и хладнокровию. И дивно помогал ему в том крест Стратилатова распятия, им самим тогда, в Слободе, в подвале, испробованный, жаль, что не вполне…
Имея перед собой допросный лист, ровно переписанный набело Годуновым, государь на предоставленном кресле расположился в довольно просторной, с другими в сравнении, каменной подклети. Факел горел на одной из стен, под ним – бочка с водой. Свет вбивался косо через часто забранное оконце под самым потолком, и его отчасти хватало, чтобы видеть дыбу, подвешенную в середине. Солома под ней была свежая, видно, только что смененная. Поодаль, из другой стены, выступала каменной кладкой жаровня, и, как тогда, перед ней и вокруг разложены и развешены были железные орудия, напоминающие кузнечные. На стене рядом, в мощных скобах, покоились кнуты, плети и железные прутья. В некоторые, в хвосты и языки сермяжных кос, были вделаны железные шипы и пули. И пахло так, как в полусыром подвале, со смесью окалины, едкой гари и палёного волоса. И застарелой, во всё въевшейся проржавевшей крови, нечистой и прогорклой… Всё это Федька оглядел мельком, точно от слишком прямого взора они могли ожить.
Годунов, поклонясь, просил государя обождать, извиняясь, что Малюта задержался малость, обучая Анемпозиста, Большака и Гурку новым для них премудростям, как раз в каземате неподалёку, и что именно сегодня, сейчас, довершают они допрос более всех упорствующего в признании вины Пронского. И вышел. Федьке показался за стеной слева слабый крик. Велев себе хотя бы виду не выказывать, и отметив, до чего спокоен Годунов, равно как и стража за дверьми, он ждал. Словом, всё было так же, как и в прошлый раз, и Федька заставил себя осмотреться вокруг внимательно.
– Ну ладно Гурку, – с долей уважительного одобрения молвил Иоанн, приподняв бровь, – но Большака, Анемпозиста, надо же…
Огонь лениво потрескивал в ватной тишине. Федька неслышно перевёл дыхание, заводя за ухо отросшую прядь.
Первым приволокли Пронского. Сперва в отворенную стражей дверь его, закованного в железо, втащил под мышки Анемпозист и кинул под петлю дыбы, согнувшись поклоном государю. За ним вошёл Годунов, и следом, вытирая ветошью большие руки с как бы неразгибающимися пальцами – Малюта, в кожаном переднике, блестящем маслянистыми тёмными брызгами и разводами. Тоже поклонился.
– И что же, Малюта, не признаётся?
– Как же, государь, признался. Куда он денется!.. – горделивость собой так и сквозила в этом ответе. Он кивнул Анемпозисту, тот могучим рывком приподнял узника, принуждая стать на колени, и придержал, чтобы тот не завалился никуда. Глухой звон цепей возник и утонул. Пронский был неузнаваем. От мокрого испариной бледного, замазанного старыми и новыми кровоподтёками тела, покрытого язвами одиночных чернеющих ран, исходил удушливый больной тяжёлый запах нечистот и крови, и, казалось, он не осознаёт ничего вокруг.
– Зачем же упрямиться было, – приглядываясь к нему, произнёс Иоанн, безо всякого зла. – Если виновен, всё равно дознаемся. А если нет – так зачем признаваться.
Федька и сам не мог понять толком, что так процарапало по нутру его при этих словах.
Годунов по государеву знаку зачитал последнее, только что, видимо, вырванное признание, суть которого сводилась к следующему: обвиняемый, в кругу ближних и знакомцев указанных лиц (далее шёл список этих лиц, и имена самых именитых стояли там наперво) соглашался с речами, что «боярству надобно собраться и решить, как Ивана в узде держать, а не то самовластием его под пятой железной окажемся, и не только чести родовой и прав исконных, но и живота лишимся, каждый поодиночке если».
– Было ли сие сказано и тобой одобрено, отвечай?
Промычав еле различимо «Было», узник уронил снова голову.
– И там ещё, государь. «Мы – от Бога места свои имеем, и не только себе, но России православной услужаем, а не Ивану! На мир с Литвой идти надо».
Узника снова спросили, и снова, глуше прежнего, было выдано согласие.
Это конец, конечно, говорил про себя Федька, такого уж точно никто не простит, да и как можно…
– «Ивана народ любит, да только Россией правит не народ, а право и воля боярская, и надобно отстоять нам её». Так, будто бы, Шереметев сам говорил.
– Это тот, который в монастырь намедни сбёг? И что же, было такое, отвечай?
И с этим обвинённый согласился.
– Там ещё есть, государь… В том же духе, с другими лицами, всё тут перечислено…
– И этого довольно.
За такое примерное послушание итоговое царь повелел наградить князя Василия Пронского милостивой казнью – отсечением головы.
Далее то же примерно было с Иваном Карамышевым и Крестьянином Бундовым, хоть те смотрелись получше, поскольку сознавались сразу же почти, и только за последние самые крамольные речи, сперва всё отрицая, получили от Малюты быстрый и жестокий урок. Они, в отличие от Пронского, пробовали молить государя о пощаде и каяться, ссылаясь на заблуждения и то, что подначиваний тех, кто выше, послушались, испугавшись их страшных прорицаний. Что ж, и им дарована была та же милость царская.
Федька помнил, как просил тогда «лёгкой смерти» для Горецкого…
Днём позже на Болотной площади, к полудню, под звон скорбного колокола, собрался честной народ. Царь быть на казни не пожелал. Но своих ближних отправил.
Федька, в их окружении, был особняком, на царском возвышении, прямо перед лобным местом, и было всё видно до мелочи как на ладони. Рубить поручили Большаку, как самому умелому. Коли царь велел милостиво – с одного удара, стало быть, надо. Он стоял, полыхая красной рубахой на всё запорошенное снегом, серо-чёрно-пёстрое многолюдье, и безучастно взирал поверх всех голов.
Привезли осуждённых.
Возник поп с кадилом и крестом, и нараспев забормотал отпущения.
Пошёл крупный медленный снег, и сквозь белёсые тучи просветило бледно-жёлтым солнечное пятно. Над ними высоко куда-то по своим делам пронеслась с громкими криками большая стая ворон.
Возвысив зычный голос, уполномоченный дьяк надсадно разборчиво и долго зачитывал народу обвинение, наконец, умолк, свернул свиток и подобрал полы шубы, слезая по деревянным ступеням с помоста…
Пронскому и тут была оказана услуга – его казнили первым и без проволочек.
Федька всё видел, как во сне. Как его втащили на помост, как поп что-то последнее проговорил перед ним, уже лежавшим головой на колоде плахи, и сошёл, как поднялся топор над палачом. Замерев на миг, ухнул вниз, и глухой жуткий звук, стук, с которым рубят свежее мясо с костью, чавкнул, вместе с ахом толпы. И голова отпала, и неимоверное количество крови, пронзительно алой, полыхнуло, заливая всё, так что первые попятились, опасаясь этих брызг. И палач поднял эту будто бы ещё живую голову за свалянные волосы и показал народу.
– Сим очищен.
Зачем он заставлял себя смотреть на всё это и не отводить глаз, не зажмуриваться, хоть порой было невыносимо. Особенно когда Бундов стал плакать и вырываться, а после, уже прижатый к колоде подручными палача, осознавши, что этак рубить его будут долго, если не успокоится, прохрипел проклятие. Показалось, он встретил Федькин остановившийся взгляд, и жутко осклабился… Или то была гримаса кошмара надвигающейся насильственной смерти…
Последнее отсечение прошло осознанно и спокойно, и Федька позавидовал достоинству Карамышева, его молчаливому совершенному отчаянию… Как одиноко быть там, вот так, прилюдно – принимать такое и падать в мрак небытия телесного и неизвестности душевной…
Господи.
Вечером Иоанн пожелал стоять молебен у себя в домовой часовне. Спросил, отчего печален и бледен будто бы. Уж не сожалеет ли он, Федька, о преступниках. Плачевно, отвечал, видеть людей, прежде здоровых и благополучных, в таком нечестии и несчастии. Одно отрадно – что по свершении казни все прегрешения казнимого прощаются, и нет препятствий между духом его и раем. Так утверждается… Но что ж, коли закон нарушен.
После он лежал в темноте, не в силах избавиться от стоящих перед взором картин.
И в окна царского покоя лилась такая же, как нынешняя, луна.
И вот сегодня, внезапно, среди непонятной бестолковой кутерьмы, которой часто бывают полны сны уставшего человека, как наяву предстал ему Малюта, с этой паклей, обтирающей кровь с мощных лап в рыжеватой поросли, с самодовольной ухмылкой в бороду, с рвением в твёрдом взгляде умных бесчувственных, как у хищного животного, маленьких глаз. Он шёл прямо к нему, Федьке, раскрывая пристрастное объятие, и как Федька не пятился, как не пытался отстраниться, что-то словно сковало по рукам и ногам, с неумолимостью предавая во власть этого прирождённого палача, и постоянно слышался насмешливый уговор не рыпаться, ведь тогда придётся рубить долго… А он ведь хочет с одного раза.
Было уже далеко за полдень, когда долгий царский поезд выполз, наконец, за Москву, и потянулся по белой дороге мимо Коломенского, на Троице-Сергиеву Лавру.
Глава 2. Луч райского возвращения
Троице-Сергиева Лавра.
Двумя днями позже.
Огромная и богатая, Троицкая обитель, тем не менее, слегка захлебнулась вчерашними хлопотами по прибытии государя и его необычайно многочисленного сопровождения. Всё было уже готово, заведомо, понятно, но в спешке общей суеты на целых полдня монастырь превратился в подобие шумного посада, как ни старались все, и обслуга, и прибывшие, блюсти приличествующую событию степенность благочестия.
Конечно, встречать царя архимандрит Кирилл с присными и городские вельможи с посадскими главами вышли далеко за стены Лавры. Многоголосый праздничный перезвон чуть ли не сотни звонниц некогда скромной, а ныне величественной и неприступной в каменной красе крепости обители разносился над посадами по всей округе, до самых дальних деревень, что лепились по извилистым берегам Вондюги и Кончуры. Со всех сторон стекался люд, теснился в прилегающих улицах, вымощенных сосновыми, а кое-где и дубовыми плашками, выложенными заново по подтаявшему снеговому грязноватому месиву. Пушкарская, Стрелецкая, Иконная и Поварская, Конюшенная и Тележная слободы дымились очагами и гудели, готовые воспринять почётную заботу о высоких гостях обители, которой все они служили и от которой кормились.
И впраямь, подумалось Федьке, повезло им всем, работягам и ремесленникам, и купчишкам при них, расселиться здесь, забот особых не ведая, кроме как честно пахать на попов. Не в пример тем окрестным заморышам-хуторам, что на болотцах и пустошах чем живы, одному Богу известно, и бедность тамошняя лютая неизбывная казалась сущим адом, унылым, серым, зачумлённым и бесконечным, в сравнении со здешним житьём, где тоже нищебродов всяких хватало, но то были приблудные, и без подаяния никогда не остающиеся. Место хлебное.
Ему хотелось самому проводить родных до отведённого им обиталища. Был это просторный двор и дом дородного купца из Конюшенной, не уступавший, пожалуй, многим московским хоромам… Но обязанности кравчего удерживали его при государе всё время, пока длилось обустройство в монастырских покоях, а Арину Ивановну и княжну Варвару с их теремными сопроводили до места люди воеводы Басманова.
Улучив час, который дан был прибывшим с государем в свите на отдых перед общей трапезой, он всё же расспросил, где жилище означенного гостеприимного хозяина, и наведался проверить, как там они устроились. И Петьку пришлось оторвать от ватаги, с которой он, как уверял, уже успел освоиться, и забрать с собой до остальной родни, на ночёвку. Поскольку к свите царевича Ивана он не был приписан, а был в числе добровольно сопровождающих…