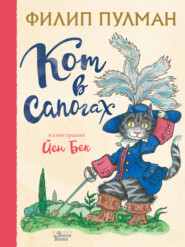По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Книга Пыли. Тайное содружество
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Лира, ты бы себя слышала! С тобой правда что-то случилось. Тебя как будто заколдовали. Эти люди опасны!
– Вздор и предрассудки! – отрезала Лира и впервые почувствовала к Пану настоящее презрение. Она тут же возненавидела себя за это, но остановиться уже не могла. – Ты просто ни на что не можешь смотреть спокойно и беспристрастно. Тебе обязательно нужно ругаться, оскорблять! Это ребячество, Пан, и незрелость. Приписывать злые или магические качества аргументу, который ты не в силах опровергнуть!.. Ты ведь всегда считал, что видишь вещи такими, какие они есть, а теперь сам заблудился в тумане суеверий и магии. И боишься того, чего просто не можешь понять!
– Все я понимаю! А вот ты – нет, в этом-то и проблема. Ты искренне считаешь шарлатанов глубокими мыслителями и философами. Да они тебя просто загипнотизировали! Читаешь вздор, который эти двое пишут, и думаешь, что это последнее интеллектуальное достижение! Они врут, Лира, оба врут! Талбот надеется, что истина исчезнет, если он будет ловко фехтовать парадоксами. Бранде – что добьется того же, просто отрицая ее. Знаешь, что лежит на самом дне этого твоего помрачения?
– Ну, вот ты опять рассуждаешь о том, чего нет. Но давай, выкладывай, что ты там хотел сказать.
– Это не просто позиция, которую ты сознательно приняла. Ты наполовину веришь и немецкому философу, и этому второму. Вот в чем все дело. Ты достаточно умна снаружи, но в глубине души так наивна, что почти веришь во всю эту ложь!
Лира покачала головой и озадаченно развела руками.
– Даже не знаю, что сказать. Во что я верю, или верю наполовину, или совсем не верю, никого не касается. И вламываться вот так в чужую душу…
– Но я-то не чужой! Я – это ты! – Пан закрутился волчком, прыгнул обратно на книжный шкаф и смотрел оттуда на Лиру горящими глазами. – Ты заставляешь себя забыть! – В голосе его звучали такой гнев, такая горечь, что Лира растерялась.
– Теперь я совсем не понимаю, о чем ты.
– Ты забываешь все, что по-настоящему важно! И пытаешься поверить в то, что нас убьет!
– Нет, – она постаралась говорить как можно спокойнее. – Ты все неправильно понял, Пан. Мне просто интересен другой образ мыслей. Так всегда бывает, когда ты чему-то учишься. Среди всего прочего ты делаешь еще и это – понимаешь чужие идеи. Точнее, пытаешься понять их, увидеть мир другими глазами. Примеряешь на себя ощущение, каково это – когда веришь в то, во что верят другие.
– Это низость!
– Что именно? Философия?
– Если она утверждает, что меня не существует, то да, твоя философия – низость. Потому что я существую! Все деймоны и прочие… сущности, как выражаются твои философы, – мы действительно существуем! А попытки верить в этот бред нас убивают.
– Видишь ли, если ты правда считаешь это бредом, значит, ты еще даже не приблизился к пониманию вопроса. Ты уже сдался, поднял лапы. Даже не пытаешься вести дискуссию рационально. С тем же успехом можно кидаться камнями.
Пан отвернулся.
По дороге на завтрак они не сказали друг другу ни слова. Их ждал еще один день, проведенный в молчании. Пан собирался кое-что сказать ей про ту маленькую записную книжку из рюкзака, с именами и адресами, – но теперь не станет.
* * *
После завтрака Лира посмотрела на кучу одежды, которая давно просила стирки, тяжело вздохнула и засучила рукава. В колледже Святой Софии была прачечная со стиральными машинами, где юные леди могли позаботиться о своей одежде самостоятельно. Считалось, что это гораздо полезнее для формирования характера, чем если твои вещи будет стирать прислуга, как было заведено у юных джентльменов из Иордан-колледжа.
В прачечной Лира была одна – большинство подруг разъехались на Рождество по домам и одежду свою, естественно, забрали с собой. В прошлом ее положение сироты, чей единственный дом – мужской колледж через дорогу, нередко вызывало у них сочувствие, и несколько раз Лира проводила праздники у кого-то из однокашниц. Ей было интересно посмотреть, что это такое – семейный очаг, где тебя привечают, дарят подарки (и принимают твои), включают в общие игры и развлечения. Иногда к этому прилагался брат – пококетничать. Иногда она чувствовала себя чужой в тесном кружке, который веселился несколько натужно. Иногда приходилось мириться с множеством бестактных вопросов о ее необычном воспитании и происхождении. Но всякий раз в тихий, мирный Иордан-колледж, где оставалось совсем немного учителей и слуг, она возвращалась с большой радостью. Это был ее дом.
Учителя относились к ней дружелюбно, но отстраненно: все они были погружены в свою исследовательскую работу. Слуги занимались самым простым и важным – следили, чтобы ей было что есть; чтобы она пристойно себя вела; чтобы у нее случались мелкие заработки, приносившие хоть немного карманных денег, – например, ей позволяли полировать серебро. Отношения с ними за долгие годы почти не менялись – за исключением миссис Лонсдейл, домоправительницы, – такой должности в большинстве колледжей не было. В ее обязанности входило следить за тем, чтобы младенец по имени Лира был чист и опрятен, говорил «пожалуйста» и «спасибо», и прочее в том же духе, – и ни в одном другом колледже совершенно точно не было своей Лиры.
Теперь, когда ее подопечная выучилась самостоятельно одеваться и сносно себя вести, миссис Лонсдейл заметно к ней потеплела. Она была вдовой (овдовела довольно рано и детей завести не успела) и неотъемлемой частью жизни колледжа. За все эти годы никто так и не удосужился четко определить ее роль или перечислить обязанности, а теперь уже и пытаться не стоило. Даже энергичному молодому казначею после нескольких наскоков пришлось отступить и признать ее важность и власть. Впрочем, власть как таковая домоправительницу никогда не интересовала. Казначей прекрасно знал – так же, как и слуги, ученые и сам магистр, – что власть и влияние миссис Лонсдейл всегда служили лишь укреплению колледжа и благополучию юной Лиры. Что любопытно, на двадцатом году жизни Лира и сама уже начала это понимать.
А потому у нее вошло в привычку время от времени заглядывать в гости к миссис Лонсдейл – посплетничать, спросить совета, занести маленький подарок. На язык миссис Лонсдейл была так же остра, как и в детские годы Лиры. Разумеется, были вещи, о которых ей не расскажешь, но они с миссис Лонсдейл стали добрыми друзьями, насколько это вообще было возможно. А еще Лира заметила, что, как и другие люди, раньше казавшиеся ей величественными, всемогущими и вечными, домоправительница на самом деле была совсем не старой. Она вполне могла бы еще завести своих детей… но об этом они с ней не говорили и говорить не могли.
Лира отнесла чистую одежду обратно в Иордан, потом сходила в Софию еще раз – за книгами, которые могли ей понадобиться на каникулах, потом сбегала на рынок и потратила немного из вырученных за чистку серебра денег на коробку шоколадных конфет. К миссис Лонсдейл она явилась в тот час, когда та точно была у себя и пила чай.
– Здрасьте, миссис Лонсдейл. – Она чмокнула хозяйку в щеку.
– И что у тебя случилось? – строго спросила та.
– Да ничего особенного.
– Не пытайся мен провести. Я все вижу. Неужели Дик Орчард опять с тобой крутит?
– Нет, с Диком у нас давно кончено. – Лира села в кресло.
– А ведь мальчишка очень недурен собой.
– Да уж, тут не поспоришь, – согласилась Лира. – Но у нас кончились темы для разговора.
– Такое случается. Поставь-ка чайник на огонь, дорогуша.
Лира взяла большой черный чайник, стоявший на каменном полу у очага, и повесила на крюк над огнем. Хозяйка открыла коробку шоколада.
– О, какая прелесть! – воскликнула она. – Трюфели от Мейдмента! Чудо, что у них еще что-то осталось после Пира основателей. Ну, так что у тебя на сердце, детка? Выкладывай все про твоих богатых друзей.
– Не таких уж и богатых, по нынешним временам, – отозвалась Лира и выложила все про отца Мириам и что по этому поводу думал мистер Коусон.
– Розовая вода, – кивнула миссис Лонсдейл. – Моя бабушка тоже ее делала. Брала большую медную кастрюлю, насыпала доверху розовых лепестков, заливала чистой водой и кипятила, а пар дистиллировала. Или как там это правильно называется… Прогоняла через стеклянные трубки, чтобы он снова превратился в воду. И лавандовую воду тоже делала. Я всегда думала, что это все слишком хлопотно, ведь можно просто пойти к Босуэлу и купить одеколон, и совсем недорого.
– Мистер Коусон дал мне бутылочку своей особой розовой воды, и она… даже не знаю, такая богатая, концентрированная.
– Розовый аттар, так они ее, кажется, называют. Хотя, может, я и ошибаюсь.
– Мистер Коусон не смог объяснить, почему ее теперь так трудно достать. Посоветовал пойти к доктору Полстеду.
– Ну, так почему ты его не спросишь?
– Ну… – Лира закатила глаза.
– Что – ну?
– Вряд ли доктору Полстеду хочется лишний раз со мной разговаривать.
– Это еще почему?
– Потому, что когда он пытался учить меня несколько лет назад, я, кажется, была с ним груба.
– Что значит – кажется?
– Ну, мы с ним вроде бы не поладили. Надо, чтобы учитель тебе нравился, правда? Ну, или не обязательно нравился, но у вас должно быть с ним что-то общее. Так вот, у меня с ним ничего общего не было. Мне с ним рядом как-то неловко, и ему со мной, думаю, тоже.
Миссис Лонсдейл налила чаю себе и Лире. Они еще немного посплетничали – в основном об интригах на кухне, где враждовали главная повариха и та, что занималась выпечкой. Еще обсудили новое зимнее пальто, которое купила миссис Лонсдейл, и что Лире тоже надо бы. Поговорили о Лириных подружках в Святой Софии – как они увиваются за молодым пианистом, который недавно приезжал в город.
Раз или два Лира подумывала рассказать про убийство, бумажник и рюкзак, но удержалась. Никто не мог ей с этим помочь, кроме Пана… Но с ним в обозримом будущем не поговоришь.
Миссис Лонсдейл то и дело поглядывала на Пантелеймона, который лежал на полу и притворялся спящим. Лира буквально слышала ее мысли: что это за новая холодность между вами? Почему вы друг с другом не разговариваете? Но об этом так просто не поболтаешь, да еще в присутствии самого Пана… и это было досадно: здравый смысл и острое слово в таких вопросах незаменимы.
– Вздор и предрассудки! – отрезала Лира и впервые почувствовала к Пану настоящее презрение. Она тут же возненавидела себя за это, но остановиться уже не могла. – Ты просто ни на что не можешь смотреть спокойно и беспристрастно. Тебе обязательно нужно ругаться, оскорблять! Это ребячество, Пан, и незрелость. Приписывать злые или магические качества аргументу, который ты не в силах опровергнуть!.. Ты ведь всегда считал, что видишь вещи такими, какие они есть, а теперь сам заблудился в тумане суеверий и магии. И боишься того, чего просто не можешь понять!
– Все я понимаю! А вот ты – нет, в этом-то и проблема. Ты искренне считаешь шарлатанов глубокими мыслителями и философами. Да они тебя просто загипнотизировали! Читаешь вздор, который эти двое пишут, и думаешь, что это последнее интеллектуальное достижение! Они врут, Лира, оба врут! Талбот надеется, что истина исчезнет, если он будет ловко фехтовать парадоксами. Бранде – что добьется того же, просто отрицая ее. Знаешь, что лежит на самом дне этого твоего помрачения?
– Ну, вот ты опять рассуждаешь о том, чего нет. Но давай, выкладывай, что ты там хотел сказать.
– Это не просто позиция, которую ты сознательно приняла. Ты наполовину веришь и немецкому философу, и этому второму. Вот в чем все дело. Ты достаточно умна снаружи, но в глубине души так наивна, что почти веришь во всю эту ложь!
Лира покачала головой и озадаченно развела руками.
– Даже не знаю, что сказать. Во что я верю, или верю наполовину, или совсем не верю, никого не касается. И вламываться вот так в чужую душу…
– Но я-то не чужой! Я – это ты! – Пан закрутился волчком, прыгнул обратно на книжный шкаф и смотрел оттуда на Лиру горящими глазами. – Ты заставляешь себя забыть! – В голосе его звучали такой гнев, такая горечь, что Лира растерялась.
– Теперь я совсем не понимаю, о чем ты.
– Ты забываешь все, что по-настоящему важно! И пытаешься поверить в то, что нас убьет!
– Нет, – она постаралась говорить как можно спокойнее. – Ты все неправильно понял, Пан. Мне просто интересен другой образ мыслей. Так всегда бывает, когда ты чему-то учишься. Среди всего прочего ты делаешь еще и это – понимаешь чужие идеи. Точнее, пытаешься понять их, увидеть мир другими глазами. Примеряешь на себя ощущение, каково это – когда веришь в то, во что верят другие.
– Это низость!
– Что именно? Философия?
– Если она утверждает, что меня не существует, то да, твоя философия – низость. Потому что я существую! Все деймоны и прочие… сущности, как выражаются твои философы, – мы действительно существуем! А попытки верить в этот бред нас убивают.
– Видишь ли, если ты правда считаешь это бредом, значит, ты еще даже не приблизился к пониманию вопроса. Ты уже сдался, поднял лапы. Даже не пытаешься вести дискуссию рационально. С тем же успехом можно кидаться камнями.
Пан отвернулся.
По дороге на завтрак они не сказали друг другу ни слова. Их ждал еще один день, проведенный в молчании. Пан собирался кое-что сказать ей про ту маленькую записную книжку из рюкзака, с именами и адресами, – но теперь не станет.
* * *
После завтрака Лира посмотрела на кучу одежды, которая давно просила стирки, тяжело вздохнула и засучила рукава. В колледже Святой Софии была прачечная со стиральными машинами, где юные леди могли позаботиться о своей одежде самостоятельно. Считалось, что это гораздо полезнее для формирования характера, чем если твои вещи будет стирать прислуга, как было заведено у юных джентльменов из Иордан-колледжа.
В прачечной Лира была одна – большинство подруг разъехались на Рождество по домам и одежду свою, естественно, забрали с собой. В прошлом ее положение сироты, чей единственный дом – мужской колледж через дорогу, нередко вызывало у них сочувствие, и несколько раз Лира проводила праздники у кого-то из однокашниц. Ей было интересно посмотреть, что это такое – семейный очаг, где тебя привечают, дарят подарки (и принимают твои), включают в общие игры и развлечения. Иногда к этому прилагался брат – пококетничать. Иногда она чувствовала себя чужой в тесном кружке, который веселился несколько натужно. Иногда приходилось мириться с множеством бестактных вопросов о ее необычном воспитании и происхождении. Но всякий раз в тихий, мирный Иордан-колледж, где оставалось совсем немного учителей и слуг, она возвращалась с большой радостью. Это был ее дом.
Учителя относились к ней дружелюбно, но отстраненно: все они были погружены в свою исследовательскую работу. Слуги занимались самым простым и важным – следили, чтобы ей было что есть; чтобы она пристойно себя вела; чтобы у нее случались мелкие заработки, приносившие хоть немного карманных денег, – например, ей позволяли полировать серебро. Отношения с ними за долгие годы почти не менялись – за исключением миссис Лонсдейл, домоправительницы, – такой должности в большинстве колледжей не было. В ее обязанности входило следить за тем, чтобы младенец по имени Лира был чист и опрятен, говорил «пожалуйста» и «спасибо», и прочее в том же духе, – и ни в одном другом колледже совершенно точно не было своей Лиры.
Теперь, когда ее подопечная выучилась самостоятельно одеваться и сносно себя вести, миссис Лонсдейл заметно к ней потеплела. Она была вдовой (овдовела довольно рано и детей завести не успела) и неотъемлемой частью жизни колледжа. За все эти годы никто так и не удосужился четко определить ее роль или перечислить обязанности, а теперь уже и пытаться не стоило. Даже энергичному молодому казначею после нескольких наскоков пришлось отступить и признать ее важность и власть. Впрочем, власть как таковая домоправительницу никогда не интересовала. Казначей прекрасно знал – так же, как и слуги, ученые и сам магистр, – что власть и влияние миссис Лонсдейл всегда служили лишь укреплению колледжа и благополучию юной Лиры. Что любопытно, на двадцатом году жизни Лира и сама уже начала это понимать.
А потому у нее вошло в привычку время от времени заглядывать в гости к миссис Лонсдейл – посплетничать, спросить совета, занести маленький подарок. На язык миссис Лонсдейл была так же остра, как и в детские годы Лиры. Разумеется, были вещи, о которых ей не расскажешь, но они с миссис Лонсдейл стали добрыми друзьями, насколько это вообще было возможно. А еще Лира заметила, что, как и другие люди, раньше казавшиеся ей величественными, всемогущими и вечными, домоправительница на самом деле была совсем не старой. Она вполне могла бы еще завести своих детей… но об этом они с ней не говорили и говорить не могли.
Лира отнесла чистую одежду обратно в Иордан, потом сходила в Софию еще раз – за книгами, которые могли ей понадобиться на каникулах, потом сбегала на рынок и потратила немного из вырученных за чистку серебра денег на коробку шоколадных конфет. К миссис Лонсдейл она явилась в тот час, когда та точно была у себя и пила чай.
– Здрасьте, миссис Лонсдейл. – Она чмокнула хозяйку в щеку.
– И что у тебя случилось? – строго спросила та.
– Да ничего особенного.
– Не пытайся мен провести. Я все вижу. Неужели Дик Орчард опять с тобой крутит?
– Нет, с Диком у нас давно кончено. – Лира села в кресло.
– А ведь мальчишка очень недурен собой.
– Да уж, тут не поспоришь, – согласилась Лира. – Но у нас кончились темы для разговора.
– Такое случается. Поставь-ка чайник на огонь, дорогуша.
Лира взяла большой черный чайник, стоявший на каменном полу у очага, и повесила на крюк над огнем. Хозяйка открыла коробку шоколада.
– О, какая прелесть! – воскликнула она. – Трюфели от Мейдмента! Чудо, что у них еще что-то осталось после Пира основателей. Ну, так что у тебя на сердце, детка? Выкладывай все про твоих богатых друзей.
– Не таких уж и богатых, по нынешним временам, – отозвалась Лира и выложила все про отца Мириам и что по этому поводу думал мистер Коусон.
– Розовая вода, – кивнула миссис Лонсдейл. – Моя бабушка тоже ее делала. Брала большую медную кастрюлю, насыпала доверху розовых лепестков, заливала чистой водой и кипятила, а пар дистиллировала. Или как там это правильно называется… Прогоняла через стеклянные трубки, чтобы он снова превратился в воду. И лавандовую воду тоже делала. Я всегда думала, что это все слишком хлопотно, ведь можно просто пойти к Босуэлу и купить одеколон, и совсем недорого.
– Мистер Коусон дал мне бутылочку своей особой розовой воды, и она… даже не знаю, такая богатая, концентрированная.
– Розовый аттар, так они ее, кажется, называют. Хотя, может, я и ошибаюсь.
– Мистер Коусон не смог объяснить, почему ее теперь так трудно достать. Посоветовал пойти к доктору Полстеду.
– Ну, так почему ты его не спросишь?
– Ну… – Лира закатила глаза.
– Что – ну?
– Вряд ли доктору Полстеду хочется лишний раз со мной разговаривать.
– Это еще почему?
– Потому, что когда он пытался учить меня несколько лет назад, я, кажется, была с ним груба.
– Что значит – кажется?
– Ну, мы с ним вроде бы не поладили. Надо, чтобы учитель тебе нравился, правда? Ну, или не обязательно нравился, но у вас должно быть с ним что-то общее. Так вот, у меня с ним ничего общего не было. Мне с ним рядом как-то неловко, и ему со мной, думаю, тоже.
Миссис Лонсдейл налила чаю себе и Лире. Они еще немного посплетничали – в основном об интригах на кухне, где враждовали главная повариха и та, что занималась выпечкой. Еще обсудили новое зимнее пальто, которое купила миссис Лонсдейл, и что Лире тоже надо бы. Поговорили о Лириных подружках в Святой Софии – как они увиваются за молодым пианистом, который недавно приезжал в город.
Раз или два Лира подумывала рассказать про убийство, бумажник и рюкзак, но удержалась. Никто не мог ей с этим помочь, кроме Пана… Но с ним в обозримом будущем не поговоришь.
Миссис Лонсдейл то и дело поглядывала на Пантелеймона, который лежал на полу и притворялся спящим. Лира буквально слышала ее мысли: что это за новая холодность между вами? Почему вы друг с другом не разговариваете? Но об этом так просто не поболтаешь, да еще в присутствии самого Пана… и это было досадно: здравый смысл и острое слово в таких вопросах незаменимы.