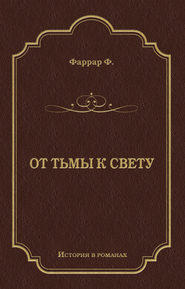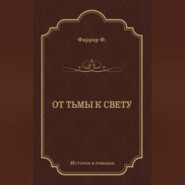По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сквозь мрак к свету или На рассвете христианства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– «Accepimus rerritura perrituri» – «недолговечные мы принимаем недолговечное», – улыбаясь, сказал он. – Впрочем, даже и сама клевета не может не засвидетельствовать, что для меня собственно на этих ценных столах лишь в исключительных случаях подается какая-либо роскошь, более дорогая, чем свежая вода, овощи и плоды.
И, повторив Лукану на ухо совет вести себя осторожнее и не давать воли своему пылкому нраву, «суровый стоик-царедворец» встал и пошел навстречу своему сотоварищу, Бурру Афранию.
Бурр был еще сравнительно молодой человек, и с первого взгляда в нем был виден настоящий воин – неустрашимый и честный римлянин. Но сегодня и он был угрюм и мрачен, и те, кому случалось видеть его в день воцарения Нерона, когда он сопровождал юного императора сначала в лагерь преторианцев, а оттуда и в сенат, не могли не заметить, как много новых морщин прибавлялось с тех пор на его открытом и честном лице.
Подобно Сенеке, Бурр чувствовал, что с каждым днем положение дел при дворе принимает все менее и менее утешительный характер. Но, к счастью, народные массы, как и большая часть аристократии, радуясь миру и общественному благоденствию, пока еще находилась в полном неведении тех прискорбных обстоятельств, которые возбуждали столько тревог за будущее в умах этих двух государственных мужей, беспокоя их предчувствиями самого зловещего свойства. Как и аристократия, народ с восторженной похвалой отзывался о речи, произнесенной новым императором перед сенатом после того, как был отдан последний печальный долг бренным останкам умерщвленного Клавдия. «Во всем мире нет человека, против которого я питал бы чувство злобы или ненависти, – сказал Нерон, – и мстить мне некому. Моей священнейшей обязанностью сделается забота о сохранении во всей ее неприкосновенности автономии законом утвержденного суда. В моем дворце не будет ни подкупа, ни происков. Войском я буду командовать, но никогда не позволю себе затронуть чем-либо священных прав отцов-сенаторов». Нельзя было не узнать в этой речи стиля и чувств Сенеки, но ведь это могло служить только ручательством того, что кормило правления наконец-то в руках мудрой философии. И действительно, сенаторам на первых порах представлено было принять некоторые весьма благодетельные и полезные меры. Это было началом того периода царствования Нерона, благотворными результатами которого в смысле внешнего спокойствия и общественной безопасности государство было обязано исключительно совместным усилиям Сенеки и преторианского префекта Бурра.
Но, кроме Нерона, очень серьезные опасения возбуждало как в том, так и в другом из этих двух ближайших к императору людей, непомерное и беспокойное честолюбие Агриппины. Не говоря уже об ее упорном желании занимать, вопреки обычаю того времени, и в дворцовом совете сенаторов. и при приеме иностранных послов первое место после Нерона, она позволила себе почти гласно подвергнуть насильственной смерти не только давнишнего своего недоброжелателя Нарцисса, но еще и Юния Силана, брата бывшего нареченного жениха Октавии до ее замужества с Нероном, и которого она опасалась, как праправнука императора Августа и вероятного мстителя за смерть брата. Только с большим трудом удалось, наконец, соединенным противодействием Бурра и Сенеки прекратить дальнейшие такого же рода кровавые расправы мстительной женщины.
А между тем перед ними, с каждым днем, появлялись новые затруднения. Нерон все теснее и теснее сближался с такими представителями тогдашней римской «золотой молодежи», какими считались справедливо Отон, Туллий Сенеций и оригинальный красавец Тигеллин. Эти люди оказывались его опытными многознающими наставниками во всяких пороках, а он был крайне понятливым учеником, не замедлившим своими успехами превзойти учителей. Благодаря, отчасти, влиянию этих новых друзей, император очень скоро перестал конфузиться своей любовью к прелестной Актее, вольноотпущеннице в свите Октавии, и отдался открыто своему чувству со всем пылом юных лет. Об этом романе не замедлила узнать везде имевшая своих шпионов Агриппина и, боясь всякого соперничества в привязанности к ней сына, разразилась целой бурей жестоких упреков и даже угроз. Это было с ее стороны очень грубой ошибкой: ласковое и спокойное слово увещания было бы, по всей вероятности, не только действительнее, но, может быть, и оказалось бы поворотной точкой в жизни человека, пока еще не совсем испорченного, а только начинавшего робко и застенчиво искушаться на поприще зла. К тому же, она сделала при этом случае еще и другую ошибку: заметив, что строгостью она, оттолкнув Нерона от себя, тем самым как бы толкнула его в общество Отона, Сенеция и им подобных, она впала в противоположную крайность и начала очень снисходительно смотреть на то, к чему сперва отнеслась так строго и с таким негодованием и этим очень сильно пошатнула свое влияние на сына.
Но и ошибка Сенеки в этом случае имела также не менее пагубное влияние на молодого императора. Вместо того, чтобы остановить его и отвлечь, пробудив в нем благородное честолюбие и жажду славы, философ имел неосторожность пустить в ход зловредную тактику уступок, в которой дошел до того, что даже уговорил одного из своих родственников, начальника полиции, притвориться влюбленным в Актею и этим, заслонив любовь Нерона, отвести от него глаза.
Сегодня же Бурр явился к Сенеке именно с той целью, чтобы сообщить ему, что страсть Нерона к Актее начинает переходить границы разумного, что он уже стал поговаривать о намерении, с помощью подкупа, заставить двух римских консулов клятвенно засвидетельствовать, что Актея – простая, раба, вывезенная из Азии – прямой потомок Аттала, царя пергамского, и высказал Бурру свое желание развестись с Октавией и жениться на Актее.
– А вы что ему на это сказали? – спросил Сенека.
– Я очень откровенно объяснил ему, что если он разведется с Октавией, то будет обязан возвратить ей ее вено.
– Ее вено?
– Ну, да – римскую империю. Ведь, если он владеет ею, то только благодаря тому, что Клавдий, как мужа своей дочери, сделал его своим приемным сыном.
– А что он ответил на это?
– Надулся, как капризный ребенок, получивший выговор, и я уверен, что он когда-нибудь припомнит мне эти мои слова.
– А я так полагаю, Бурр, что с нашей стороны будет, напротив, благоразумнее помочь этой романической привязанности цезаря, нежели бороться с ней. Актея безвредна – и не опасна: добрая и кроткая, она никогда не станет злоупотреблять своим влиянием, – она неспособна обидеть даже муху. Напротив, она может только удержать Нерона на покатой дороге порока и зла. И вот почему мое мнение таково, что в данном случае, некоторое потворство является наилучшей политикой, и потому, сказать по правде, я уже принял некоторые меры к устранению кое-каких затруднений…
– Вы – философ, человек мысли, и вам, конечно, лучше это знать, – сказал Бурр, – тем не менее, я должен сказать, что такой образ действий мне не нравится и не этим путем пошел бы я. Впрочем, к этому возвращаться больше не стану, если вы считаете возможным не смотреть на это дело с особенно серьезной точки зрения. Простите, я ухожу. Долг солдата требует моего присутствия в лагере. Прощайте!
Через несколько времени после ухода Бурра к Сенеке пришел в это же утро еще посетитель – стоик Анний Корнут.
– Милости прошу! Корнут во всякое время желанный гость в доме Сенеки, – приветствовал философ коллегу, – но никогда еще посещение твое не было так вовремя, как сегодня. Мне необходимо посоветоваться с тобой под строгим секретом насчет дальнейшего воспитания императора.
– Допустимо ли, чтобы мудрый Сенека, издавший столько прекрасных наставлений по вопросу о воспитании и образовании, нуждался в совете по этому делу? – удивился Корнут.
Но Сенека, вместо всякого ответа, изложил другу те причины, которые несколько минут тому назад приводил Бурру в объяснение своего образа действия. Несмотря на это, Корнут с откровенностью истого стоика беспомощно уничтожил его хитросплетенную ткань софизмов.
– Поступок может быть или хорош, или дурен, – сказал он, – если он дурен, обелить его не могут никакие оправдательные мотивы, и он остается таковым, к каким бы мы не прибегали изворотам, чтобы одобрить его. Ты говоришь, что цель твоих малодушных уступок – удержать императора от тех позорных и жестоких подвигов, какими омрачили свое царствование Тиверий и Калигула. Но имеется ли возможность достичь этого иначе, как только посредством постоянного внушения императору, что он имеет право делать лишь то, что должен делать. Чтобы сдержать многоголовую гидру порочных побуждений молодого человека, ее необходимо покорить господству разума, а не давать ей волю брать над ним верх.
– Это верно, но по своему положению я обязан смотреть на вещи не только с точки зрения отвлеченных нравственных соображений, но с точки зрения государственного человека, – заметил, несколько обиженный Сенека.
– Да, но в таком случае не следует и прикрывать своего образа действий философским учением. Прости, я говорю с тобой откровенно, как стоик со стоиком. Но, может быть, тебе неприятно слышать правду? Я готов в этом случае замолчать. Но если желаешь, чтобы я говорил, – вот тебе мое откровенное мнение: ты заблуждаешься жестоко, мечтая управлять страстями путем потворства им. Позволяя Нерону предаваться одной преступной наклонности, ты надеешься, по твоим словам, спасти его этим от более пагубных уклонений с пути правды и добра. Разве ты не знаешь, что все пороки – одна беспрерывная цепь.
Вторая ошибка – это твоя лесть перед учеником и то, что ты вбил ему в голову уверенность в неограниченности его власти.
– Нерон император и, в конце концов, волен делать и поступать, как ему заблагорассудится, – сухо заметил Сенека.
– Но, хотя он и император, однако же, можно говорить и ему правду, – сказал Корнут. – Я первый осмелился оскорбить его вчера, сказав ему одну правду.
– Каким это образом?
– Твой племянник Лукан, восторгаясь фантастическими стихотворениями Нерона, высказал желание, чтобы Нерон написал четыреста томов… – «Четыреста! – воскликнул я. – Уж не много ли это будет?» – «Отчего много? – сказал Лукан, – издал же Хризипп, которого вы постоянно так превозносите, четыреста томов». – «Да, – ответил я, – но то были такие сочинения, которые принесли пользу человеку». – Нерон надулся и стал чернее ночи. Все бывшие тут многозначительно посмотрели на меня. Но что же делать: нельзя же философам в угоду императоров превращаться в льстецов. Что стало бы тогда с философией?
– В твоей скромной доле ты счастливее меня, Корнут, – сказал Сенека и тяжело вздохнул. – Но пойми меня: не одобряю я, а только уступаю. Сам же я, изнемогаю под гнетом страшной неизвестности, и бывают моменты, когда жизнь кажется мне каким-то хаосом, наполненным одной бессмысленной суетой. Хоть я и порываюсь подняться на более высокую ступень добродетели, но – увы! – человеческие слабости и несовершенства всегда тормозят мои лучшие стремления. Я уже не в силах стать наравне с лучшими, и все, что я могу – это быть несколько лучше дурных.
– Только тот, кто старается метить выше всех, может надеяться достигнуть идеала, сколько-нибудь высокого, и к чему громкие слова, без твердого намерения осуществлять их на деле, – сказал Корнут и, встав, простился с Сенекой.
Сенека пошел проводить гостя. Но не завидно было чувство, глухо нывшее в то время в глубине души одного из тех людей, которому больше всего завидовали в Риме.
Глава IV
Нерон – император
Окруженный новыми приятелями, праздно проводил Нерон утро среди различных потех. Не взирая на ранний передобеденный час, он был облачен в легкую просторную синтезу – род широкой цветной туники с широкими рукавами – и в сандалиях на ногах. Такая небрежность в костюме молодого императора была лишь следствием чрезмерной склонности к различным удобствам и излишнему самоугождению. Впрочем, волосы его были завиты весьма тщательно, и пальцы унизаны множеством перстней. Подобно и самому императору, окружавшие его приятели, небрежно полулежа на низких ложах, болтали, сплетничали, часто зевали, редко смеялись от души и льстили – льстили ему без конца.
Отон, в то время ему было около 23-х лет, представлял собой весьма характерный продукт римской цивилизации эпохи империи. Без усов и без бороды, он был к тому же плешив и смотрел на свою лысину, которую искусно скрывал под щегольски завитым белокурым париком, как на одну из самых вопиющих несправедливостей неправедных жестоких богов. Ростом Отон был невысок и ноги у него были кривые, но его большие прекрасные глаза с поволокой и чрезвычайно красивый лоб придавали его лицу выражение необыкновенно приятное, но вместе с тем и очень изнеженное. И в самом деле, изнеженность была выдающейся чертой характера этого фаворита, для которого ароматические ванны, праздное шатание и небрежное волокитство с тонкими улыбками составляли высшее наслаждение в жизни, и даже его так прославленное самоубийство не было лишено некоторой доли изнеженности. Шестью годами старше императора и несравненно опытнее его в пороках, он не замедлил приобрести над ним очень сильное влияние, и этим влиянием вскоре окончательно уничтожил те добрые начала, какие были вложены в сердце Нерона благими наставлениями Сенеки и Бурра. Рядом с Отоном возлежал другой молодой богач – кутила и расточитель – Туллий Сенеций, считавшийся законодателем моды среди римской богатой молодежи. Кружок приятелей дополняли: Петроний, человек необыкновенно образованный и умный, но одновременно страшный циник и очень невоздержанный на язык, Вестин, юноша, испорченный до мозга костей, Квинтиан, известный своею алчностью и, наконец, Тигеллин, в то время только что начинавший свою карьеру, на которой впоследствии стяжал столь громадную известность своей жестокостью, продажностью, предательством и всевозможными пороками.
А между тем, все эти представители римской золотой молодежи, очевидно, страшно скучали в обществе друг друга и не знали, что делать, чтобы убить время. Сперва они пробовали было доставить себе развлечение, потешаясь над скоморошеством одного из придворных шутов и злым остроумием редкого по своей миниатюрности карлика. Но вскоре такая забава прискучила. Тогда они принялись за строго воспрещавшиеся законом игры в кости, бабки и кубы, и при этом приказывали подавать фляги с фалернским вином и плоды. А между тем, им все-таки казалось, что время идет черепашьим шагом, как вдруг императора озарила, наконец, счастливая мысль: он предложил приятелям в виде развлечения, осмотреть старинные наряды, уборы и драгоценные украшения прежних императриц. Восторженными криками одобрения отвечали приятели на предложение императора.
Любуясь драгоценными украшениями, парчовыми столами, усыпанными жемчугом и богатыми уборами, Нерон заметно повеселел и, выбрав один великолепный камень артистической работы с изображением Венеры Анадиомены, подал его Отону, прибавив:
– Этот камень будет достойным украшением на шее твоей очаровательной Поппеи. А вот этот редкий опал я подарю тебе, Вестин, хотя ты временами и не стоишь подарка за свои грубости.
– Смелая речь – лучшая похвала властителям могущественным и сильным, – с худо скрываемой иронией проговорил Вестин.
– Ладно! Впрочем, не за твои услуги и дарю я тебе эту драгоценность, а скорее с той целью, чтобы красовалась она на алебастровых руках твоей прелестной Статилии. Собственно же для тебя самым подходящим подарком была бы вот эта, вделанная в янтарь, ехидна: она эмблема твоей коварной злости, а янтарь – твоей лести. А что мне подарить тебе, Сенеций, и тебе, Петроний? У обоих вас по стольку прелестных предметов обожания, что, пожалуй, пришлось бы разом раздать вам все, что здесь есть. Но так и быть: тебе, Сенеций, я дарю эту, унизанную жемчугом, золотую сетку для волос, а тебе, Петроний, вот чудный агат с вырезанным рукою самой природы изображением Аполлона и Муз. Тебе же, Квинтиан, дарю на память вот этот золотой перстень с изображением Гиласа: он придется как раз тебе в пору.
Но в эту минуту новая, хотя и менее удачная, выдумка пришла в голову Нерону. Выбрав одну из самых богатых и великолепных одежд и несколько драгоценных вещей, он подозвал к себе вольноотпущенника Поликлета и приказал эти вещи отнести на половину вдовствующей императрицы в подарок от его имени Агриппине.
– Да смотри, – прибавил он, – не позабудь вернуться ко мне, чтобы передать, что скажет Августа в благодарность.
Нерон и его приятели были уже опять в той зале, где проводили время с самого утра, и снова засели за кости и кубы, когда возвратился Поликлет, видимо, смущенный. Впрочем, и у самого императора появились к этому времени некоторые опасения за немножко необдуманный поступок. Было что-то вульгарное и неделикатное в таком внимании императора к матери, еще так недавно владевшей безраздельно всеми этими нарядами, уборами и драгоценностями, как своей полной собственностью. Но и в этом незначительном, в сущности, случае Агриппина сделала ошибку, не сумев подавить своего деспотического и гордого нрава настолько, чтобы благосклонно принять глубоко оскорбивший ее самолюбие подарок сына.
– Осталась ли Августа довольна моим подарком? – как-то нерешительно спросил Поликлета Нерон, отрываясь от игры.
– Я доложу императору об этом, когда он будет один, – отвечал отпущенник.
– Вздор! Все эти люди мои друзья, и если моей матери угодно было быть слишком красноречивой в излиянии своей признательности – они, конечно, ее извинят, – нервно проговорил Нерон.
– Ни благодарности, ни привета не поручила мне Августа передать цезарю.
– Что же так? Это не совсем любезно с ее стороны. Но передай мне в точности, что она сказала.
– Она спросила меня, с кем проводит время император, и я сообщил ей имена здесь присутствующих.
– Какое ей до этого дело? – сердито вскричал император и весь вспыхнул, заметив многозначительный взгляд, каким обменялись Отон и Вестин.
Другие электронные книги автора Фредерик Вильям Фаррар
От тьмы к свету




 4.67
4.67