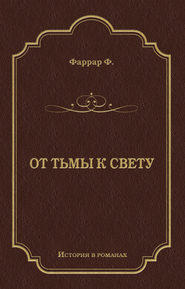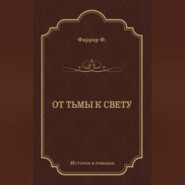По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сквозь мрак к свету или На рассвете христианства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Затем Августа пожелала узнать, сделал ли император еще какие-нибудь подарки, и на мой ответ – да, – спросила: «Кому же?»
– Настоящий допрос! – процедил сквозь зубы Вестин.
– Я ответил, что император пожаловал подарком Отона, Вестина и остальных.
– Напрасно было сообщать столько подробностей, Поликлет. Однако, продолжай.
– Августа при этом презрительно усмехнулась.
– Увы! на нашу долю не выпало счастья пользоваться благосклонным вниманием Августы, – прошепелявил Отон.
– Но что же сказала она о богатой столе и о прочих вещах?
– Августа еле удостоила их взглядом, и как только кончила меня допрашивать, далеко отбросила от себя и парчовую столу, и драгоценные камни.
Нерон при этих словах вспыхнул сильнее прежнего и, только немного спустя, спросил отпущенника, не велела ли ему Августа передать что-либо.
Поликлет, видимо, колебался продолжать.
– Да говори же! – крикнул нетерпеливо Нерон. – Ты, во всяком случае не можешь быть ответственным за ее слова.
– Мне тяжело повторять цезарю слова Августы, – начал Поликлет, – но я повинуюсь. – «Мой сын, – сказала она, – дарит эти вещи мне, которая подарила ему все, чем он только владеет. Пусть лучше прибережет он эти наряды для себя; они мне не нужны. Есть вещи, которыми я дорожу гораздо больше». И с этими словами Августа встала и, отбросив ногой лежавшую на полу столу, удалилась из комнаты.
Нерон сидел весь бледный, закусив от досады губы: он был взбешен и поступком Агриппины, и многозначительными усмешками Сенеция и Петрония.
На выручку к нему явился Отон.
– Не огорчайся и не волнуйся, Нерон, – сказал он. – Агриппина, вероятно, немножко позабыла в эту минуту, что ты теперь император.
– Уж не думает ли Августа, что наш император все еще в таких годах, когда юноше полагается носить не тогу зрелого мужа, а только окаймленную пурпуровой каймой тогу претекста? – пошутил Тигеллин.
Нерон вскочил, словно его ужалили, причем опрокинул стол и рассыпал валявшиеся на нем кости и кубы с очками, а затем начал в сильном волнении шагать взад и вперед по зале. Молодой император еще не успел окончательно стряхнуть с себя привычку подчиняться воле матери и пока все еще находился в некотором страхе перед ней, не без ужаса представляя себе, до чего способна дойти эта женщина, как в своем честолюбии, так и в своей ненависти.
– Нет, мне такая борьба не по силам, – бормотал он про себя. – С Агриппиной мне не совладать! Как знать, не собирается ли она уже и меня угостить чем-нибудь вроде грибов? Рим мне ненавистен – ненавистна вся моя империя. Я сложу с себя порфиру. Наслаждаться жизнью – вот единственное мое желание, единственное стремление. У меня есть талант к пению, и, даже если все другое мне изменит, я все-таки найду себе средства к существованию, расхаживая с музыкой и пением по улицам Александрии. Вдобавок, не предсказал ли мне какой-то из астрологов, что я буду царем не то в Иерусалиме, не то в другой какой-то восточной стране? Здесь же я человек самый несчастный в мире!
И император бросился на ложе. Лицо его горело; глаза сверкали ненавистью и злобой.
– И как только смеет она оскорблять меня такой неслыханной дерзостью? Если бы я послал эти самые подарки Октавии – бедное дитя очутилось бы на седьмом небе от радости, послал бы Актее – кроткие глаза прелестного создания наполнились бы слезами любви. Ну стоит ли быть императором, если моя мать будет и дальше не только господствовать надо мной, но еще и глумиться.
– Разве цезарь не знает, что придает Агриппине столько отваги? – спросил шепотом Нерона Тигеллин.
– Право, не знаю, – ответил Нерон, – разве только, что она с самого моего детства привыкла всегда встречать во мне покорного сына.
– Нет, – сказал Тигеллин, – это потому, что Паллас держит ее руку, и потому что…
Он остановился.
– Паллас? Что такое Паллас? – сказал император. – Бывший раб – и больше ничего. Его я не боюсь! Я могу завтра же удалить его – дать ему отставку. Но что ты еще хотел мне сказать?
– Я хотел сказать моему цезарю, что если Агриппина чувствует себя сильной, – шепнул Тигеллин на ухо Нерону, – то вследствие того, что Британник жив.
– Британник! – повторил Нерон, но больше не сказал ни слова, – только лицо его стало мрачнее тучи.
Глава V
Британник
Трудно было бы найти в Риме юношу, судьба которого была бы печальнее участи сына Клавдия и достойнее сожаления. Блестящим успехом увенчались коварные происки честолюбивой его мачехи, добившейся того, что Британник, прямой наследник престола после последнего цезаря, был ничем во дворце своих предков. Отведенные для него вместе с немногочисленной его свитой апартаменты находились в самой отдаленной от императорских палат части обширного дворца, и только в очень редких случаях дозволялось Британнику быть гостем на банкетах и празднествах, так часто наполнявших музыкой, пляской и весельем роскошные залы молодого императора. В обращении Агриппины с пасынком обнаруживалась какая-то загадочная нервность: она то старалась оскорбительно-покровительственным и надменным обращением сурово оттолкнуть его от себя, то вновь пыталась привлечь к себе и для этого начинала осыпать его нежностями и ласками, словно желала этим загладить свою вину перед ним. Но для Британника эта нежность и эти ласки мачехи были во сто раз противнее ее суровости и часто, не умея скрывать своих настоящих чувств, он очень ясно выказывал ей это, чем, разумеется, только вредил себе. Точно также и Нерон, хотя и третировавший его по большей части с высоты своего величия, часто, однако ж, в душе желал бы видеть в нем больше теплых братских чувств к себе. Единственной отрадой Британника была его дружба с горячо им любимой сестрой, императрицей Октавией, в откровенных беседах с которой он всегда отдыхал душой и у которой находил себе убежище от тех ненавистных шпионов, какими с самого нежного его возраста постоянно старалось окружить его дальновидное честолюбие Агриппины.
Был, однако ж, среди окружающих один человек, которому Британник вполне доверял и которого любил искренно. Это был центурион преторианской гвардии Пуденс, постоянно находившийся во дворце на карауле то в одном месте этого обширного здания, то в другом. Впрочем, кроме Пуденса, Британник имел счастие найти себе также и среди своих сверстников одного очень преданного друга, которого и сам он горячо любил, в лице старшего сына Веспасиана, Тита. Тит был всего на один месяц старше Британника. С детства мальчики-ровесники вместе учились, вместе и играли. Ничтожество в смысле значения политического рода Флавиев, от которого вел свое происхождение Веспасиан, было одной из первых причин, почему Агриппина выбрала Тита в товарищи сыну Клавдия. Ничто никогда не прерывало этой дружбы двух молодых людей и даже впоследствии, когда Тит стал уже императором, он сохранял неизменно самое теплое воспоминание о юном друге, так безвременно погибшем на заре жизни, и в память ему воздвиг конную статую.
Как-то раз, проходя дворцовым садом, Тит увидел мальчика-раба, делавшего неимоверные усилия, чтобы заглушить и сдержать стоны и рыдания. Вид этого бедного ребенка тронул юношу. Не приученный, подобно другим римским молодым аристократам той эпохи, гнушаться разговоров с рабами, в которых, благодаря наставлениям своего отца и Сенеки, видел, напротив, таких же людей, как и другие, он остановился пред мальчиком и спросил его:
– Кто ты, и о чем плачешь?
– Меня зовут Эпиктетом, – отвечал ребенок, – и я принадлежу к числу рабов императорского секретаря Епафродита. Сейчас я упал и очень сильно ушиб больную ногу. Однако, постараюсь перенести эту боль мужественно.
– Настоящий стоик! – сказал Тит. – Но что с твоей ногой?
– Я слаб и уродлив и не мог быть полезным рабом, – сказал мальчик, – и по этой причине мой господин решил обучить меня философии и приставил в качестве книгоносца к своему сыну, который посещает лекции философа Музония Руфа. И вот Музоний, по своей доброте, позволяет мне садиться на пол, где-нибудь в уголке, и слушать, что он преподает своим ученикам. Пока я еще не стоик, но приложу все усилия, чтобы со временем стать им.
– Все это прекрасно, но ты еще не сказал мне, как случилось, что ты хромой?
Эпиктет слегка покраснел.
– Восемь недель назад, – начал он, – я проходил мимо дверей триклиниума, как вдруг в это самое время вышел оттуда один из рабов с подносом со стеклянными кубками и сосудами в руках и, наткнувшись на меня, уронил часть посуды и разбил. Вину за разбитые вещи он свалил на меня, и Епафродит дал приказание вывихнуть мне одну ногу. Мне было ужасно больно; тем не менее, помня учение доброго Музония, я всячески старался не кричать и только раз не вытерпел и закричал: «Если будете так и дальше вертеть мне ногу, то, чего доброго, сломаете ее». Но никто не обратил внимания на мое замечание, а действительно кончилось тем, что ногу мне сломали. Однако, тогда я не плакал, и мне очень стыдно, что я имел сегодня слабость поддаться такому постыдному малодушию.
– Бедняга! Пойдем со мной, я отведу тебя к Британнику. Он сострадателен и добр и, может быть, попросит императрицу Октавию принять в тебе участие.
И Эпиктет заковылял вслед за Титом, который вскоре привел его к Британнику. Мужество мальчугана очень понравилось принцу, он его приласкал и с этого времени Эпиктет часто бывал его гостем, причем нередко передавал молодым людям то, чему в своих лекциях учил стоик Музоний. Этими беседами был положен первый зачаток будущему стоицизму Тита.
Другого доброжелателя Британник нашел себе, как это ни казалось странным, в красавице Актее. Несколько двусмысленное положение этой женщины при дворе Нерона в первое время его царствования, – положение, греховность которого она, по своему воспитанию, не могла понять – не лишало ее ни нравственной чистоты, ни природного добродушия. Привязанностью императора к себе она не кичилась и, если когда пользовалась влиянием на него, то единственно, чтобы доставить облегчение другим. К Британнику Актея чувствовала большую жалость и не раз даже возбуждала против себя гнев императора своим заступничеством за него. Вместе с тем, ей все-таки удалось добиться от Нерона некоторого ослабления строгого надзора, каким постоянно старались окружить юношу, за что Британник, со своей стороны, чувствовал к ней большую благодарность.
Британник, как и отец его, имел большую склонность к занятиям историей и ни в чем не находил большего для себя удовольствия, как слушать рассказы Тита, слышанные последним от своего отца Веспасиана, о военных подвигах доблестных римских войск при покорении Британии. Однажды он даже упросил центуриона Пуденса пойти с ним навестить старика Карадока – британского военачальника, с успехом боровшегося в течение целых девяти лет против римлян в Британии. Старый воин очень обрадовался, увидав у себя в гостях сына императора, пощадившего ему жизнь из уважения к его храбрости и скоро привел юношу в восторг своими рассказами о друидах, о Моне, о силурийских быстрых реках, об охотах на волков и диких кабанов среди дремучих лесов и топких болот. А пока старик, таким образом, занимал юношу повествованиями, Пуденс, не отрывая глаз, любовался дочерью старого воеводы, златокудрой, с голубыми глазами Клавдией, которая, с своей стороны, говорила ему о далекой, милой родине на берегах серебристого Северна.
Постепенно беседы с Карадоком пробудили в Британнике желание ближе познакомиться с Авлом Плавтом, покорителем южной части далекого острова. Плавт при дворе находился на самом хорошем счету, и ничего поэтому не могло быть легче для Британника, как получить разрешение посещать дом всеми уважаемого полководца. Здесь, в доме Плавта, юноша впервые увидел и его жену Помпонию Грецину – женщину, справедливо считавшуюся образцом верной дружбы, женского целомудрия и скромности. Близкий друг в дни первой молодости внучки Тиберия, Юлии, несчастной жертвы жестокости Мессалины.
Помпония не снимала с самого дня смерти Юлии траурной одежды и даже, как гласила, хотя и неверно, молва, никогда не улыбалась.
Впрочем, и на самом деле улыбка весьма редко появлялась на крутом лице Помпонии, но и без улыбки в этом лице, в его блаженно спокойном и бесконечно добром выражении, было что-то необычайно хорошее и привлекательное. Она совсем не походила ни складом ума, ни воззрениями, ни чувствами, ни даже внешним обликом на других римлянок своего круга… Она не румянилась и не белилась, не носила высоких замысловатых причесок, никогда не пудрила волос золотой пудрой, не душилась восточными ароматами. Как в образе жизни, так и в одежде Помпония отличалась необыкновенной простотой. Редко посещала она многолюдные собрания и празднества, ограничивая свои выезды немногими домами, некоторых наиболее добродетельных и честных сенаторов. Порок чувствовал себя устыженным в присутствии этой женщины и невольно краснел; римские матроны легкомысленного поведения, падкие до вольных разговоров, при ее появлении почтительно замолкали, расфранченные щеголи старались держаться скромнее. Но, отдавая ей такую дань невольного уважения, данники в то же время в душе завистливо шипели и тайком распускали про Помпонию слухи, более или менее клонившиеся к тому, чтобы повредить ее завидной репутации. Между прочими, был распущен слух, будто втайне она христианка.
– Ну, что за беда, если оно и так, – рассуждали об этом некоторые благородные римлянки высшего круга. – Разве сам Нерон не воздает божеских почестей какой-то ассирийской богине? да и обворожительная жена Отона, Поппея Сабина, как говорят, иудеянка.
– Иудеянка! Быть иудеянкой еще очень почтенно. И сестра Агриппы, прелестная Береника, тоже примкнула к иудейству. Впрочем, все это еще ничего; но быть христианкой! – Уж одно это слово в порядочном человеке должно возбуждать чувство непреодолимого отвращения. Одни фригийские рабы-беглецы способны примыкать к числу поклонников Онокоита – этого нового божества с ослиной головой.
Однако, выдумка, распространенная злобой в виде зловредной клеветы, в данном случае, оказалась правдой, Помпония действительно была тайной христианкой. Подолгу оставаясь в разлуке с мужем в то время, как он совершал военные походы, и ежеминутно беспокоясь за него в мучительной неизвестности, Помпония, которая большую часть этого времени оставалась в Галлии, случайно познала там через доверенную прислужницу Нерзису, обращенную в христианство одним из первых галльских миссионеров, учение об истинном Боге и с этого времени жизнь ее, всегда чистая и беспорочная, стала жизнью святой.
Плавту было крайне приятно видеть в потомке цезарей его любознательность относительно всего, касавшегося истории родного края и особенно военных подвигов римлян. Он постоянно встречал юношу с искренним радушием и не замедлил представить его своей жене, к которой Британник с первого же раза почувствовал полное доверие и особое влечение. Она совсем не подходила к тому типу римских женщин, с каким он был знаком с детства, и, казалось, целая бездна отделяла ее от таких личностей, какой была его мать Мессалина и какую он видел в своей мачехе Агриппине. При всей своей простоте, Помпония казалась ему в сто раз привлекательнее, чем богато разодетые жены сенаторов и консулов, которых ему случалось видеть иногда в раззолоченных залах Палатинского дворца.
Другие электронные книги автора Фредерик Вильям Фаррар
От тьмы к свету




 4.67
4.67