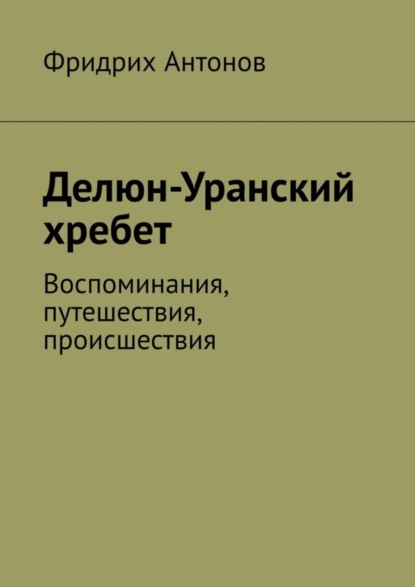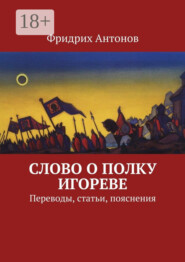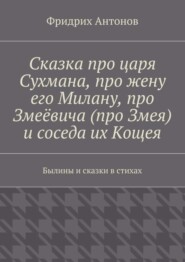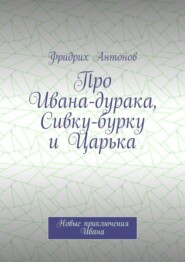По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Делюн-Уранский хребет. Воспоминания, путешествия, происшествия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это было, конечно, и раньше. Но до этого, все заботы по охране и защите дома и семьи, лежали на отце. И меня всё это не касалось. Но в 1944 году, когда мне было 8 лет, отца разбил паралич. И мне во многом пришлось очень рано повзрослеть. К моим детским забавам и играм прибавились дела и заботы, которые иногда ложатся на плечи куда более взрослых людей. Ни для кого не секрет, что в те времена, на золотодобывающих предприятиях работали в основном заключённые. Там были всякие, но были и такие, кому сидеть было 20 лет и более. И они даже не мечтали, что когда-нибудь выйдут на свободу. Потому, что срок этот – был, мягко говоря, не окончательным. Существовала хитрая система негласных правил, по которым тем, кому было дано 20—25 лет, как правило, на свободу не выходили.
Конечно, из любого правила были исключения. Но существовало и правило! За время отсидки, всегда находился повод для увеличения срока заключения. А за побег, просто восстанавливался первоначальный срок. И всё! Больше 25 не давали, но и свои – 25, каждый мог заиметь всегда и пожизненно.
Поэтому, когда наступало лето, начинались регулярные и массовые побеги. Зимой – температура минус 40, а до железной дороги 1,5—2,0 тысячи километров! Хоть выпускай всех из-под стражи! Никто никуда не побежит. А вот летом, бежали все, особенно, кому было сидеть 20 и более лет. И ведь практически все знали, что никто, никуда не убежит! Почти всех поймают! И знали также, что больше 25 лет не дадут! Вот и бежали, чтобы глотнуть, хоть глоток свободы.
Путей было только два: либо на лодках по Витиму и Лене до Усть-Кута, либо по Мамакану и Верхней Ангаре до Байкала. А там – по Байкалу, до железной дороги. Оба пути были хорошо известны. По ним, на лето выставлялись посты и практически вся беглая братия возвращалась назад. Уходили редкие единицы. Когда в наших кинофильмах показывают, как они бегут зимой, а иногда даже без шапок (мода, взятая из голливудских боевиков). А за ними – гонятся! Это конечно, – очень интересно! (Но это – дурь собачья!)
Зимой за ними никто и никогда не гонялся! И даже не искал! Все зимние побеги были лишь до первой ночёвки. А дальше, либо они сами приходили обмороженные, либо становились окостенелыми трупами. Зверья в тайге много. А весной медведь всё остальное прибирал без следов и остатков. А что зимой с Севера никто, никуда не бежал, зафиксировано на бытовом уровне, как аксиома, в десятках присказок и поговорок. Мало того, это отмечено даже в бардовском, околотюремном фольклоре:
Опять зима, опять пурга!
Придёт метелями звеня.
Сойти с ума!
Уйти в бега —
Теперь уж поздно для меня!
Побеги (у нас, во всяком случае) начинались только с наступлением лета. Да и бежали, больше для того, чтобы душу отвести! «Погулять», вырваться на свободу да напиться живой крови! Подвалит фарт – хватить водочки или изнасиловать кого-нибудь! А там, что бог даст. С золотых приисков, что почти все как один (около 10 штук) располагались вдоль реки Бодайбо, бежали до верховьев Большого Якоря. Дальше – через Витим. (Перевозила их, скорее всего, бакенщица Валько.) Жила она в зимовье, среди глухой тайги, на беглой тропе, в устье Большого Якоря. Мужа у неё не было, но рожала она регулярно, каждый год. Детей там было штук пятнадцать, причём совершенно разных и настолько непохожих друг на друга, что все только диву давались: «Откуда они взялись?»
Не хватало там, разве что, африканцев! Но в сталинские времена с этим была проблема. А всех остальных – аж с избытком! И монголоиды, и арменоиды, и наши братья славяне, и кавказцы, и азиаты, и евреи, да все настолько кондовые, – интернационал да и только. В нашем, посёлке, отродясь таких не водилось. А кроме Мамакана, здесь на десятки километров никого больше не было. И наш посёлок был последним, среди населённых пунктов, хоть в сторону Байкала, хоть в сторону Усть-Кута. И где ж было погулять, как не в Мамакане.
И как лето – только и слышишь: там семью вырезали, там кого-то ограбили, там кого-то убили. И этому конца и края не было! Лишь после смерти товарища Сталина, было дано распоряжение, по которому прекратили ссылать сюда людей и делать из Сибири всесоюзную тюрьму. А до этого, сюда гнали всё отребье, со всех концов Советского Союза! К тому же наш дом стоял, как раз на краю посёлка. За нашими огородами – начиналась тайга! Он был отгорожен от остального посёлка – забором «территории станции». И кричи, не кричи, никто не придёт, и никто не поможет! В общем – режь не хочу!
Под нашим домом, на берегу по утрам, мы часто обнаруживали брошенные лодки. Ночью кто-то переезжал речку и бросал их. Хозяин лодку не бросит, а если и оставит на время, то обязательно придёт за ней. Лодка – ценность и предмет большой необходимости в условиях Сибири! Бросает только тот, кому она не нужна: украл, переехал и всё.
И у нас, в посёлке, была тюрьма. Отгорожена она была высоким забором. Но из неё никто, никогда и никуда не бежал, ни зимой, ни летом. Потому что, здесь сидели только те, кому оставалось до освобождения максимум 5 лет. Не было смысла бежать – режим был божеский. Раз в неделю, людей водили в поселковую баню. Сидели здесь разные специалисты, в том числе и врачи. Да ещё и какие! Думаю, что ко многим из них в Москве да и в других городах, не всякий мог попасть на лечение. А тут пожалуйста. По воскресеньям им выделялось помещение и они принимали местных жителей. По воскресеньям, с утра, перед входом в зону, выстраивалась очередь, на приём к врачу.
Широко применялся здесь и режим расконвоирования – люди работали, ходили свободно, и только на ночь были обязаны вернуться в зону. Была также самоохрана. Им выдавалась форма и оружие, и они охраняли других. Жили они отдельно, в доме для самоохраны. Кое-кто из числа расконвоированных, принимал участие и в общественной жизни посёлка. Они вели кружки художественной самодеятельности. Даже у нас в школе, танцы преподавал – лезгин. Днём он работал как и все. Вечером приходил в школу, а после занятий – шёл в зону. Среди них были, и певцы, и артисты, и хормейстеры, и театральные режиссёры. Кого только не было здесь! А бежали в основном только те, кому терять было нечего.
Пока отец был здоров, мы жили спокойно. Когда случались ночные нападения, то он их лично гонял по тайге, с двустволкой в руках. Чувствовалась закалка Гражданской войны и среднеазиатской борьбы с басмачами. Как он всего этого не боялся? Ума не приложу! Один, ночью, по тайге! А когда он заболел, очевидно срабатывал его авторитет. Я повторяю, что большинство из бежавших возвращались на свои места отсидки.
Так что слух наверное доходил туда, куда следовало. И те, кто уходил в очередной побег, очевидно знали, что в дом, что за территорией станции, лучше всего – не соваться. А мы всей семьёй, когда отец заболел, старались поддерживать этот имидж, как могли. Через год-два отца немного отпустило и он стал неплохо стрелять с левой руки. Тогда ему иногда, перед кроватью ставили табурет и на него клали ружьё. Но чаще всего, это перепоручалось мне. Потому что отцу сложно было с палочкой подойти к окну. Кто-то всё равно должен был зарядить и поднести ему ружьё, а потом – открыть форточку! Мне было гораздо проще проделать всё это самому. В общем, выкручивались мы – как могли.
Никто из нас, естественно, не бегал по тайге с ружьём. Мы просто завели собаку. В посёлке арестовали Горелова и посадили его в тюрьму. За что? Не знаю. В то время, загреметь в тюрьму можно было за что угодно. Его собака стала беспризорной и мы взяли её к себе, в дом. Собака была охотничья, звали её Пальма. Когда она чуяла чужих, что подошли к дому, то обычно поднимала маму. А мама, по необходимости, поднимала меня. Из ружья, кроме отца, стрелял только я. Мама этого не умела делать и откровенно боялась, а о сестрёнке вообще говорить нечего.
Восьмилетним мальчишкой, я не мог выходить из дома и, как отец гонять их по огородам или тайге. Этот вопрос я решил по-мальчишески просто и очень радикально. Собака, чуя чужих, поворачивалась в их сторону, шерсть на её загривке поднималась дыбом и она издавала глухое рычание. А я, по-собачьему носу, определял нужное направление, открывал соответствующую форточку и не разбираясь, смалил из обоих стволов в темноту. Кто мог знать, кто там стреляет? Восьмилетний мальчишка или взрослый мужик?
Опасаться было нечего, порядочные люди по ночам, там не ходили и не могли оказаться на линии огня. А форточки в окнах были на все четыре стороны, (а в одной комнате, как раз с южной стороны, даже две). Вот я и смалил не целясь, просто по направлению. А направление, собачий нос указывал правильно. Так что пули летели в нужном направлении.
И среди зэков, очевидно, сложилось твёрдое мнение, что к нам лучше не соваться. Я думаю, что молва всё-таки доходила до адресатов. И наш дом стали обходить. И количество угнанных лодок у нашего дома постепенно уменьшалось. Изредка, конечно, появлялись. Во всяком случае, проблем с лодками у меня никогда не было. Иногда, правда, наведывались и хозяева (у кого угонялись эти лодки), но кое что оставалось и мне.
3.2. Коней в ночное
Интересные воспоминания связаны ещё с выгоном коней на пастбище, в ночное. Нас была группа ребят, одногодков, человек пять или шесть, что гоняли коней на пастбище. Лошади были рабочие, разномастные и разных пород. В их облике просматривались какие-то родовые признаки. Глядя на одних, можно было предположить, что этот конь похож на коня орловской или донской породы. Но основная масса табуна состояла из коней, чьей родиной была Якутия, были кони и монгольской породы.
Был даже один конь, похожий на кавказских скакунов, по кличке Рябчик. Он был не рябой, а пятнистый, с большими чёрно-белыми пятнами. Он единственный скакал, высоко задрав голову и красиво выбрасывая передние ноги. Как на картинах, где изображались кавказские наездники (в том числе и на пачке папирос – «Казбек»). На Рябчике ездил старший из нас, Лёнька Малышев. Его отец работал на конном дворе и Лёньке, собственно, и доверялся ночной выпас.
Мне на Рябчике удалось проехаться несколько раз. Поздней осенью, когда огороды уже были убраны и никто не опасался потравы. В ночное из-за холодов, уже никто не ездил. Просто кто-то из нас, выгонял табун за посёлок на выездном коне и возвращался на нём назад, на конный двор. Коню насыпалась мера овса и он ставился в стойло. Поэтому, выездка была, как положено, – под седлом. Красота, кто понимает! Темнело осенью очень рано, ночи были тёмные, так что красоваться было не перед кем. А жаль!
А летними тёплыми ночами, мы с удовольствием гоняли в ночное, на дальние пастбища, подальше от картофельных полей и огородов. Там для верности, спутывали верёвочными путами передние ноги лошадей и пускали их на свободный выпас. Потом набирали дров побольше, чтоб на всю ночь хватило, а дальше: песни, сказки, истории – одна страшней другой и анекдоты – кто во что горазд. Весёлое было времечко.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: