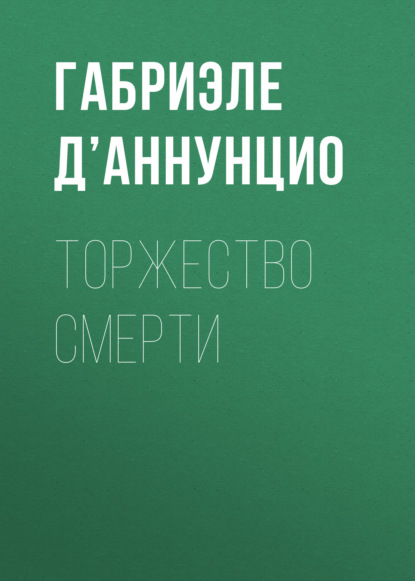По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Торжество смерти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Она красивее цветка, – сказала она.
Джиорджио замечал уже не в первый раз, что Ипполита не чувствовала сильного и непобедимого отвращения к насекомым и вообще многому, что он считал чудовищным.
– Брось ее, пожалуйста!
Она засмеялась и протянула руку, точно хотела посадить ему гусеницу на шею, но он с криком отскочил от нее. Она засмеялась еще громче.
– Какой ты, однако, храбрый!
Увлекшись игрой, она бросилась бежать за ним по дубовой роще, по крутым тропинкам, составляющим что-то вроде альпийского лабиринта. Ее звонкий смех спугивал целые стаи диких воробьев, ютившихся среди серых камней.
– Я устала, – сказала Ипполита. – Посидим здесь немного.
Они сели. Джиорджио обратил внимание на то, что они находились совсем близко от того места с цветущим дроком, где в майское утро пять девушек собирали цветы, чтобы усыпать ими путь Прекрасной Римлянки. Это утро казалось ему уже необычайно далеким, окутанным туманом мечты.
– Видишь, вон там кусты без цветов? – сказал он. – Там мы наполняли корзины цветами, чтобы усеять ими твой путь по приезде. О, какой это был день! Ты помнишь?
Она улыбнулась и под наплывом нежности взяла его руку в свои. Продолжая крепко держать ее, она прижалась щекой к плечу возлюбленного и углубилась в приятное воспоминание среди окружающего их уединения, тишины и поэзии.
Временами вершины молодых дубков колебались от ветра, а подальше на склоне холма по серой листве оливковых деревьев пробегали светлые серебряные волны. Немая пастушка понемногу удалялась вместе со своими овцами и, казалось, оставляла за собой следы чего-то фантастического, как бы отражение сказок, в которых злые феи преображаются в жаб на поворотах тропинок.
– Неужели ты не счастлив теперь? – продолжала Ипполита.
«Уже пятнадцать дней прошло, – думал Джиорджио, – а ничего не переменилось во мне. Я постоянно тревожусь, постоянно беспокоюсь, постоянно недоволен. Мы только что начали новую жизнь, а я уже вижу конец ее. Как я могу наслаждаться при этом нашей жизнью?» – Он вспомнил некоторые фразы из письма Ипполиты: «О, когда я буду проводить с тобой целые дни, когда я буду жить твоей жизнью! Ты увидишь во мне перемену… Я буду говорить тебе свои мысли, и ты будешь говорить мне все, что ты думаешь. Я буду твоей возлюбленной, твоей подругой, твоей сестрой, а если ты сочтешь меня достойной, то и твоей советницей… Ты будешь иметь от меня только удовольствие и отдых… Это будет жизнь, полная любви, какой никогда никто не знал…»
«И вот в течение пятнадцати дней вся наша жизнь состоит из мелких событий, подобных сегодняшнему. Я действительно вижу в ней перемену. Даже внешность ее меняется. Она невероятно быстро поправляется. Мне кажется, что каждая ягода и плод преображаются в ней в кровь, а живительный воздух проникает во все ее поры. Она создана для праздной, свободной, легкомысленной жизни, для низменных удовольствий. До сих пор ее губы ни разу не произнесли ни одного серьезного слова, указывающего на душевные заботы. С каждым днем ее поведение, вкусы, желания становятся более детскими. Между ней и мной только и есть общего, что утонченная чувственность. Она вносит даже в любовное упоение медленность и обдуманность, с которыми она ест вкусные фрукты и старается продлить всякое низменное удовольствие; она ясно показывает, что не хочет жить ни для чего другого и посвящает все свои заботы только тому, чтобы культивировать и изощрять свои и мои ощущения. Редкие промежутки молчания и инертности происходят у нее только от мускульной усталости, как сейчас».
– О чем ты думаешь? – спросил Джиорджио.
– Ни о чем. Я счастлива.
И через несколько минут она добавила:
– Хочешь, пойдем дальше?
Они встали. Ипполита звонко поцеловала его в щеку. Она была весела и чувствовала потребность двигаться.
Они остановились на середине склона, на опушке леса, под впечатлением поэтической красоты моря.
Море было окрашено в нежный зелено-голубой цвет, становившийся понемногу все более зеленым; свинцово-голубое небо, изборожденное там и сям облаками, отливало розовым оттенком в направлении Ортоны, и этот свет слабо отражался на горизонте, напоминая растрепанные розы, плавающие на поверхности воды. На фоне моря красивыми ступенями выделялись сперва два огромных дуба с темными вершинами, ниже светлые оливковые деревья и еще ниже – смоковницы с яркой листвой и фиолетовыми ветвями. Огромная, почти полная оранжевая луна всплыла из-за горизонта, подобно прозрачному хрустальному шару, сквозь который виднеется изображение сказочной страны, высеченное в виде барельефа в массивном золотом круге.
Тишина нарушалась близким и далеким щебетанием птиц. Где-то замычал бык, потом залаяла собака, затем послышался детский плач. Вдруг все звуки затихли, кроме этого плача.
Это был негромкий и прерывистый, слабый и постоянный, почти нежный плач ребенка. Он хватал за душу, не позволяя человеку сосредоточиться ни на чем другом и наслаждаться прелестью надвигавшихся сумерок, наполняя душу искренней тоской, отвечавшей страданиям неизвестного маленького невидимого существа.
– Ты слышишь? – сказала Ипполита, невольно понижая голос, в котором звучало сострадание.
– Я знаю, кто плачет.
– Ты знаешь? – спросил Джиорджио, неожиданно вздрагивая при звуке ее голоса.
– Да.
Она продолжала прислушиваться к жалобным звукам, наполнявшим, казалось, всю окружающую местность.
– Это ребенок, которого сосет нечистая сила, – добавила она.
Она произнесла эти слова без малейшей улыбки, точно разделяла сама это суеверное мнение.
– Он там, в этой хижине. Кандия рассказывала мне про него.
После нескольких секунд колебания, в течение которых оба прислушивались к жалобному плачу и воображение рисовало им картину умирающего ребенка, она предложила:
– Не пойти ли нам посмотреть на него? Здесь недалеко.
Джиорджио был в недоумении. Он боялся жалкого зрелища и общения с опечаленными грубыми людьми!
– Пойдем, – повторила Ипполита с неудержимым любопытством. – Он там, внизу, в хижине под сосной. Я знаю дорогу.
– Пойдем.
Она пошла вперед, ускоряя шаги, по полю на склоне холма. Оба молчали, внимательно прислушиваясь к детскому плачу, по направлению которого они шли. И с каждым шагом неприятное впечатление становилось тяжелее, по мере того как плач делался отчетливее, и они ожидали увидеть сейчас маленькое бескровное, страдающее тельце, из которого вырывался этот плач.
Они молчали. Их сердца сжимались, колени подгибались, во рту был горький вкус. Жалобный плач ребенка сливался теперь с другими голосами, с другими звуками, и они удивились, каким образом они могли издалека слышать так отчетливо один только плач. Но тут их взор привлекла высокая и прямая сосна, стройный ствол которой казался почти черным в рассеянном свете сумерек. На вершине сосны распевали воробьи.
Когда они подошли к группе женщин, собравшихся около маленькой жертвы, пробежал шепот:
– Вот господа, вот приезжие от Кандии.
– Идите! Идите!
Женщины расступились, чтобы пропустить приезжих. Одна из них – старуха с морщинистым лицом землистого цвета и безжизненными беловатыми глазами, казавшимися стеклянными шарами в глубоких впадинах, сказала, обращаясь к Ипполите и дотрагиваясь до ее руки:
– Видишь, видишь, синьора? Нечистые силы сосут бедное создание. Погляди, до чего они довели его! Да освободит Господь Бог твое потомство!
Ее голос был беззвучный и казался искусственным, как автомат.
– Синьора, перекрестись, – добавила она.
Ее предостережение, произнесенное голосом, утратившим всякое сходство с человеческими звуками и раздававшимися из провалившегося рта, прозвучало как-то зловеще. Ипполита перекрестилась и поглядела на своего спутника.
Женщины стояли группой у двери в хижину, точно перед каким-то интересным зрелищем, и время от времени машинально выражали свое сочувствие. Состав группы постоянно менялся; уставшие глядеть уходили, и их место занимали новые. И все они делали почти одинаковые движения и повторяли почти одни и те же слова при виде медленной агонии.
Ребенок лежал в маленькой люльке из грубых березовых обрубков, похожей на маленький гробик без крышки. Несчастное создание, голое, истощенное, худое, бледное, непрерывно издавало жалобные звуки, слабо шевеля ручками и ножками, точно прося о помощи. От него остались только кожа да кости. Мать сидела в ногах люльки, наклонившись так низко, что голова ее почти касалась колен, и не отзывалась ни на чей зов. Казалось, что какая-то ужасная тяжесть давила ей шею и мешала выпрямиться. По временам она машинально дотрагивалась до края люльки своей грубой, мозолистой, сухой рукой и слегка покачивала люльку, оставаясь в прежней безмолвной позе. Плач на секунду затихал, а священные изображения, медальки и образки, которыми была увешана почти вся поверхность люльки, начинали с шумом колыхаться.
– Либерата, Либерата, – закричала одна из женщин, тряся ее. – Погляди, Либерата, пришла синьора. Погляди на нее!
Мать медленно подняла голову, растерянным взглядом обвела присутствующих и устремила на посетительницу сухие и темные глаза, в которых светились не столько усталость и страдание, сколько бессильный ужас перед ночными злыми силами, от которых не помогали никакие заклинания, ужас перед ненасытными существами, захватившими ее дом в свою власть и, по-видимому, не собиравшимися покинуть его иначе, как с маленьким трупиком.
Джиорджио замечал уже не в первый раз, что Ипполита не чувствовала сильного и непобедимого отвращения к насекомым и вообще многому, что он считал чудовищным.
– Брось ее, пожалуйста!
Она засмеялась и протянула руку, точно хотела посадить ему гусеницу на шею, но он с криком отскочил от нее. Она засмеялась еще громче.
– Какой ты, однако, храбрый!
Увлекшись игрой, она бросилась бежать за ним по дубовой роще, по крутым тропинкам, составляющим что-то вроде альпийского лабиринта. Ее звонкий смех спугивал целые стаи диких воробьев, ютившихся среди серых камней.
– Я устала, – сказала Ипполита. – Посидим здесь немного.
Они сели. Джиорджио обратил внимание на то, что они находились совсем близко от того места с цветущим дроком, где в майское утро пять девушек собирали цветы, чтобы усыпать ими путь Прекрасной Римлянки. Это утро казалось ему уже необычайно далеким, окутанным туманом мечты.
– Видишь, вон там кусты без цветов? – сказал он. – Там мы наполняли корзины цветами, чтобы усеять ими твой путь по приезде. О, какой это был день! Ты помнишь?
Она улыбнулась и под наплывом нежности взяла его руку в свои. Продолжая крепко держать ее, она прижалась щекой к плечу возлюбленного и углубилась в приятное воспоминание среди окружающего их уединения, тишины и поэзии.
Временами вершины молодых дубков колебались от ветра, а подальше на склоне холма по серой листве оливковых деревьев пробегали светлые серебряные волны. Немая пастушка понемногу удалялась вместе со своими овцами и, казалось, оставляла за собой следы чего-то фантастического, как бы отражение сказок, в которых злые феи преображаются в жаб на поворотах тропинок.
– Неужели ты не счастлив теперь? – продолжала Ипполита.
«Уже пятнадцать дней прошло, – думал Джиорджио, – а ничего не переменилось во мне. Я постоянно тревожусь, постоянно беспокоюсь, постоянно недоволен. Мы только что начали новую жизнь, а я уже вижу конец ее. Как я могу наслаждаться при этом нашей жизнью?» – Он вспомнил некоторые фразы из письма Ипполиты: «О, когда я буду проводить с тобой целые дни, когда я буду жить твоей жизнью! Ты увидишь во мне перемену… Я буду говорить тебе свои мысли, и ты будешь говорить мне все, что ты думаешь. Я буду твоей возлюбленной, твоей подругой, твоей сестрой, а если ты сочтешь меня достойной, то и твоей советницей… Ты будешь иметь от меня только удовольствие и отдых… Это будет жизнь, полная любви, какой никогда никто не знал…»
«И вот в течение пятнадцати дней вся наша жизнь состоит из мелких событий, подобных сегодняшнему. Я действительно вижу в ней перемену. Даже внешность ее меняется. Она невероятно быстро поправляется. Мне кажется, что каждая ягода и плод преображаются в ней в кровь, а живительный воздух проникает во все ее поры. Она создана для праздной, свободной, легкомысленной жизни, для низменных удовольствий. До сих пор ее губы ни разу не произнесли ни одного серьезного слова, указывающего на душевные заботы. С каждым днем ее поведение, вкусы, желания становятся более детскими. Между ней и мной только и есть общего, что утонченная чувственность. Она вносит даже в любовное упоение медленность и обдуманность, с которыми она ест вкусные фрукты и старается продлить всякое низменное удовольствие; она ясно показывает, что не хочет жить ни для чего другого и посвящает все свои заботы только тому, чтобы культивировать и изощрять свои и мои ощущения. Редкие промежутки молчания и инертности происходят у нее только от мускульной усталости, как сейчас».
– О чем ты думаешь? – спросил Джиорджио.
– Ни о чем. Я счастлива.
И через несколько минут она добавила:
– Хочешь, пойдем дальше?
Они встали. Ипполита звонко поцеловала его в щеку. Она была весела и чувствовала потребность двигаться.
Они остановились на середине склона, на опушке леса, под впечатлением поэтической красоты моря.
Море было окрашено в нежный зелено-голубой цвет, становившийся понемногу все более зеленым; свинцово-голубое небо, изборожденное там и сям облаками, отливало розовым оттенком в направлении Ортоны, и этот свет слабо отражался на горизонте, напоминая растрепанные розы, плавающие на поверхности воды. На фоне моря красивыми ступенями выделялись сперва два огромных дуба с темными вершинами, ниже светлые оливковые деревья и еще ниже – смоковницы с яркой листвой и фиолетовыми ветвями. Огромная, почти полная оранжевая луна всплыла из-за горизонта, подобно прозрачному хрустальному шару, сквозь который виднеется изображение сказочной страны, высеченное в виде барельефа в массивном золотом круге.
Тишина нарушалась близким и далеким щебетанием птиц. Где-то замычал бык, потом залаяла собака, затем послышался детский плач. Вдруг все звуки затихли, кроме этого плача.
Это был негромкий и прерывистый, слабый и постоянный, почти нежный плач ребенка. Он хватал за душу, не позволяя человеку сосредоточиться ни на чем другом и наслаждаться прелестью надвигавшихся сумерок, наполняя душу искренней тоской, отвечавшей страданиям неизвестного маленького невидимого существа.
– Ты слышишь? – сказала Ипполита, невольно понижая голос, в котором звучало сострадание.
– Я знаю, кто плачет.
– Ты знаешь? – спросил Джиорджио, неожиданно вздрагивая при звуке ее голоса.
– Да.
Она продолжала прислушиваться к жалобным звукам, наполнявшим, казалось, всю окружающую местность.
– Это ребенок, которого сосет нечистая сила, – добавила она.
Она произнесла эти слова без малейшей улыбки, точно разделяла сама это суеверное мнение.
– Он там, в этой хижине. Кандия рассказывала мне про него.
После нескольких секунд колебания, в течение которых оба прислушивались к жалобному плачу и воображение рисовало им картину умирающего ребенка, она предложила:
– Не пойти ли нам посмотреть на него? Здесь недалеко.
Джиорджио был в недоумении. Он боялся жалкого зрелища и общения с опечаленными грубыми людьми!
– Пойдем, – повторила Ипполита с неудержимым любопытством. – Он там, внизу, в хижине под сосной. Я знаю дорогу.
– Пойдем.
Она пошла вперед, ускоряя шаги, по полю на склоне холма. Оба молчали, внимательно прислушиваясь к детскому плачу, по направлению которого они шли. И с каждым шагом неприятное впечатление становилось тяжелее, по мере того как плач делался отчетливее, и они ожидали увидеть сейчас маленькое бескровное, страдающее тельце, из которого вырывался этот плач.
Они молчали. Их сердца сжимались, колени подгибались, во рту был горький вкус. Жалобный плач ребенка сливался теперь с другими голосами, с другими звуками, и они удивились, каким образом они могли издалека слышать так отчетливо один только плач. Но тут их взор привлекла высокая и прямая сосна, стройный ствол которой казался почти черным в рассеянном свете сумерек. На вершине сосны распевали воробьи.
Когда они подошли к группе женщин, собравшихся около маленькой жертвы, пробежал шепот:
– Вот господа, вот приезжие от Кандии.
– Идите! Идите!
Женщины расступились, чтобы пропустить приезжих. Одна из них – старуха с морщинистым лицом землистого цвета и безжизненными беловатыми глазами, казавшимися стеклянными шарами в глубоких впадинах, сказала, обращаясь к Ипполите и дотрагиваясь до ее руки:
– Видишь, видишь, синьора? Нечистые силы сосут бедное создание. Погляди, до чего они довели его! Да освободит Господь Бог твое потомство!
Ее голос был беззвучный и казался искусственным, как автомат.
– Синьора, перекрестись, – добавила она.
Ее предостережение, произнесенное голосом, утратившим всякое сходство с человеческими звуками и раздававшимися из провалившегося рта, прозвучало как-то зловеще. Ипполита перекрестилась и поглядела на своего спутника.
Женщины стояли группой у двери в хижину, точно перед каким-то интересным зрелищем, и время от времени машинально выражали свое сочувствие. Состав группы постоянно менялся; уставшие глядеть уходили, и их место занимали новые. И все они делали почти одинаковые движения и повторяли почти одни и те же слова при виде медленной агонии.
Ребенок лежал в маленькой люльке из грубых березовых обрубков, похожей на маленький гробик без крышки. Несчастное создание, голое, истощенное, худое, бледное, непрерывно издавало жалобные звуки, слабо шевеля ручками и ножками, точно прося о помощи. От него остались только кожа да кости. Мать сидела в ногах люльки, наклонившись так низко, что голова ее почти касалась колен, и не отзывалась ни на чей зов. Казалось, что какая-то ужасная тяжесть давила ей шею и мешала выпрямиться. По временам она машинально дотрагивалась до края люльки своей грубой, мозолистой, сухой рукой и слегка покачивала люльку, оставаясь в прежней безмолвной позе. Плач на секунду затихал, а священные изображения, медальки и образки, которыми была увешана почти вся поверхность люльки, начинали с шумом колыхаться.
– Либерата, Либерата, – закричала одна из женщин, тряся ее. – Погляди, Либерата, пришла синьора. Погляди на нее!
Мать медленно подняла голову, растерянным взглядом обвела присутствующих и устремила на посетительницу сухие и темные глаза, в которых светились не столько усталость и страдание, сколько бессильный ужас перед ночными злыми силами, от которых не помогали никакие заклинания, ужас перед ненасытными существами, захватившими ее дом в свою власть и, по-видимому, не собиравшимися покинуть его иначе, как с маленьким трупиком.