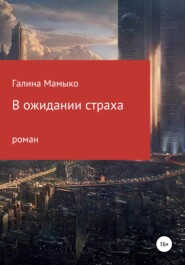По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Монастырские
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«А про улыбку Божьей Матери когда», – напомнил Антон.
«Когда ночью молилась я, то вижу, Матерь Божья мне с иконы улыбается. Я думаю, чудится. Глаза протёрла, шепчу молитву, а сама смотрю на икону. И вижу: правда, двигаются уста у Царицы Небесной, улыбается мне с иконы! И появилась во мне уверенность, что будет мой Антон жить!»
«А про владыку расскажи! Про крещение», – Антон готов каждый день слушать про крещение и про владыку.
«Родился наш Антон Рождественским постом на Илью Муромца и мученика Вонифатия, 19 декабря 1922 года. Это по нашему. Ну, а по их, так 1 января. Привела я вас на Рождество в Топловский храм, а тебя, Антон, семидневного, держу на руках, стою во дворе, а вы внутри храма. А мне на службу не положено. Это по уставу церковному так. Ждать надо матери после рождения ребёнка сорок дней, и лишь потом можно в церковных таинствах ей снова участвовать. А холодно стоять. Хоть и Крым, а ещё как зябко! Но стою, молюсь. Согреваю под платком малыша. И думаю о том, когда же и как покрестить новорождённого. Вижу, идёт в окружении людей сам архиепископ опальный. Возле меня остановился, расспросил, кто я, откуда, и говорит: «Через два дня приноси ребёнка, будем крестить». И покрестил нашего Антона. И сам ему имя дал. Я-то думала, Ильёй назовёт в честь Ильи Муромца, в чей день родился, а он иначе рассудил. Видишь, Антон, у тебя какой покровитель небесный. Отец всех русских монахов».
«Хочу быть монахом. Как Антоний Печерский», – говорит Антон.
+++
Настроение у всех торжественное. Дети уже наряжены в самое лучшее («К Богу надо ходить в чистом, во всём хорошем, праздничном», – говорит бабушка). Катя и Настя ходят по комнатам неспешно, с многозначительными лицами и говорят шёпотом, как бы показывают остальным, что в шесть-семь лет дети уже умеют быть как взрослые – степенными и серьёзными. Игорю игра во взрослых надоедает. Малыш кричит, хлопает в ладоши и делает страшные глаза. На него шикают, сёстры снисходительно улыбаются.
Все ждут чего-то особого, такого, что волнует и наполняет предчувствием доброй сказки…
Собравшиеся в храме стараются не нарушать тишину разговорами. Из-за деревянной ширмы неразборчиво доносятся приглушенные голоса исповедников.
– Антон, иди, батюшка разрешил. Во время исповеди не крутись, стой спокойно, опустив голову. Руками не размахивай. Не смейся. И не забудь, взрослым надо говорить «вы», а не «ты», – скороговоркой напоминает мама уже неоднократно озвучиваемую за минувшие сутки инструкцию.
– А вот Богу можно говорить «ты», – подытоживает Антон.
– А почему так? – спрашивает старушка из очереди.
– Потому что Он – Отец.
Хочет еще что-то сказать, но мама подталкивает туда, где ждут. Взгляды окружающих людей устремлены на мальчика. Делает шаг вперед… Из-за ширмы выглядывает отец Андрей и смотрит на Антона.
Идёт к батюшке, ему очень хочется оглянуться на маму, но пересиливает себя.
– Дитя мое! Христос невидимо стоит перед тобою, принимая исповедь твою. Не стыдись и не бойся, не скрывая ничего от меня, но скажи всё, в чём согрешил, не смущаясь, чтобы принять оставление грехов от Господа нашего Иисуса Христа. Вот образ Его пред нами: я же только свидетель, чтобы свидетельствовать перед Ним всё, что скажешь мне. Если же что-нибудь скроешь от меня, будешь иметь двойной грех. Ты пришел в лечебницу – не уйди отсюда не исцелённым…
Антон вспоминает, что делает мама в таких случаях, и тоже крестится, кланяется, затем тянется на цыпочках, чтобы поцеловать Евангелие и Крест, но не достает. Священник поднимает мальчика, и тот прикладывается к святыням.
– В чём бы ты хотел покаяться?
Роется в кармане, вытягивает носовой платок, деревянную свистульку, и, наконец, находит нужное в другом кармане – бумажный комочек, слипшийся от растаявшей шоколадки. Её сунула внуку бабушка. (Грандиозный запас шоколадных лакомств сделан был бабушкой ещё с дореволюционных времён, когда один из её сыновей уехал из Крыма на заработки в Москву, работал в Сокольниках в знаменитом Фабрично-торговом товариществе Абрикосова и имел возможность баловать родню шоколадом. Об этом хорошо знали все родственники. Во многом благодаря этому шоколадному, на вес золота, запасу удалось потом пережить голод.) Антон расправляет обеими руками листик и смотрит на содержимое записки: жирные шоколадные кляксы напирают одна на другую, поглотив написанное. Вокруг распространяется аромат шоколада. Бумага в руках подрагивает от падающих на неё слез. Антон переводит взгляд на вопросительное лицо близко наклонившегося отца Андрея, сдвигает брови, сжимает бумажку в кулаке, мнёт, прячет в карман. Вспоминает мамин совет о пользе носового платка. Вытирает руки и щёки платком.
– Совет на будущее. Шоколад лучше хранить в фольге, или пергаменте, – говорит отец Андрей.
– А я его уже откусывал. А бумажку потерял.
– Может, я смогу прочесть?
Антон отрицательно мотает головой.
– Ты грехи свои там написал?
– Почти…
– Как это – почти?
– Я по-настоящему ещё не умею писать.
– Наверное, готовился к исповеди, но сейчас немножко забыл, что собирался рассказать, так?
Антон глубоко вздыхает, смотрит батюшке в глаза.
– Попробую помочь… Наверное, ты не слушался маму. Так?
Антон ощущает дыхание батюшки. Их лица почти соприкасаются. В знак согласия сильно зажмуривается, а потом широко открывает глаза и делает брови домиком.
Отцу Андрею не понятна такая сигнализация.
– Я не вполне уяснил, что ты хотел этим сказать.
– Это я так киваю головой.
– Как это?
– Вместо головы кивают мои глаза.
– Ммм… Зачем?
– Если кивнёт голова, то наши лбы столкнутся. И будут шишки. Как у нас с мамой.
– В общем, непослушание было.
– Нет. Шишки не потому вскочили.
– С шишками разобрались. Дальше. Согрешил ещё тем, что… обманывал старших, так?
Собирается ответить, но спохватывается, и прижимает ко рту ладошки.
– Так что?
– Нельзя об этом говорить.
– Тайна?
– Да.
– Но перед Богом нет тайн, Антоний.
– Вы так шутите, что вы – Бог?
– Священник – посредник между кающимся и Богом. Через священника Бог принимает тайны кающегося грешника и прощает ему.
– Вы только Богу расскажете? А больше никому?