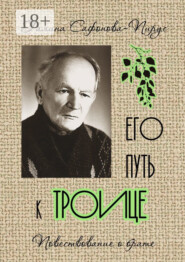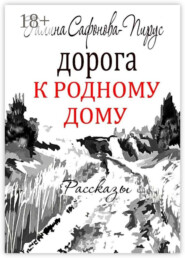По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рассказы. Миниатюры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рассказы. Миниатюры
Галина Семеновна Сафонова-Пирус
Рассказы сборника не выдуманы, а сотканы из жизненных наблюдений за теми, кто когда-то был рядом или оказался на случайных «остановках» жизни. А миниатюры – чувствования природы, явлений реальной жизни или обращений к минувшему.
Рассказы. Миниатюры
Галина Сафонова-Пирус
© Галина Сафонова-Пирус, 2016
© Мария Каченовская, дизайн обложки, 2016
ISBN 978-5-4483-1656-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Рассказы
Рассказы не придуманы, а сотканы по моим дневниковым записям или наброскам после очередных или случайных встреч с теми, кто был близок или затронул при общении. А миниатюры – моё восприятие природы, некогда взволновавшее, или короткие зарисовки о минувшем, увиденном и схваченном не только глазом, но и душой.
Семена заронённые
Когда, с каких лет на моём «белом листе» юной человеческой души начали проявляться «письмена», начертанные генной памятью?
Строчки из дневника в тринадцать лет:
«Весь день падает и падает густой снег. Очень красиво, но на улицу я не пошла, а сижу на печке, слушаю по радио музыку и пишу эти строчки. Улей стоит у нас в доме, брат осмотрел пчёл и оказалось, что половина их вымерла. Как жалко! Все лето они собирали мед, гибли в дождь, пропадали в полетах, а мы этот мед у них отняли и вот они погибли от голода. Мама собирается поставить погибшим пчелкам свечку, а мне перед оставшимися даже стыдно, ведь к нам относится цитата Радищева: «Они работают, а вы их труд ядите».
Значит, загорание моего внутреннего света началось в пору смены поры безмятежного отрочества на первые годы юности, которая станет навевать обещания неких радостных, еще расплывчатых «деяний». И дальнейшее преображение моё зависело от тех «семян», которые были заронены теми, кто был рядом, – старшим братом Виктором, мамой, – и если бы тогда погибших пчёлок она просто смела и выбросила, то что осталось бы в моей душе?
А вот уже – подсказка памяти:
Я лежу на печке и с упоением читаю роман «Кавалер золотой звезды»… Удивительно, но отчётливо запомнилось, что именно роман этого, прославленного тогда писателя Семена Бабаевского. Так вот, с увлечением читаю, но входит брат, спрашивает: что за книга? Показываю. А он выхватывает её и бросает в печку. Я – в слёзы! Но он даже и утешать не стал, а только сказал: «Никогда не забивай голову барахлом». И ведь это «семя» тоже проросло, – научилась с помощью Виктора ориентироваться в книгах, выбирая то, что подсказывало не облыжную дорогу жизни. Потом была суверенная «лестница» вверх, с которой открывалась удивительная бесконечность мира, и взбираясь по ней, надо было выбирать крепкую, надежную «ступеньку», чтобы не сорваться вниз.
Когда по утрам слышу редкие удары большого колокола вновь возведённого кафедрального собора, а потом начинают петь-распеваться и другие…
Мурашки – от этого всепроникающего звона!
Почему? Ведь и крещены в православную веру, но не проросла она в нас ритуалами, и детей к максимам православия не приобщали, – каток социалистического атеизма прошелся и по нашим душим, – но всё же под религиозные праздники у нашей единственной иконы «Марии с младенцем» всегда горела свеча.
А вручил нам Богородицу председатель колхоза, – непозволительно было коммунисту держать такое в доме, – а ему Мадонну отдал сельчанин, выловивший символ Православия из реки, ибо тогда, при Хрущеве[1 - Никита Хрущёв (1894—1971) – Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы.С 1959 года начинается массовое закрытие церковных приходов и монастырей, а в 1980-м Хрущев пообещал показать стране «последнего попа».], шло очередное наступление на религию и кто-то, испугавшись, спустил «Марию с младенцем» по течению.
Так вот, горела у нас перед иконой Богоматери свеча, пахло моими свежими булочками… И этот дивный, ни с чем несравнимый аромат только что испеченных булок, живёт во мне с детства, он – моя радующая память.
Нас у мамы было трое, – овдовела сразу после войны[2 - Великая Отечественная война (1941—45)], – и поднимала детей одна, так что, жили мы часто впроголодь, но она всегда сберегала мучичку, – иначе её не называла, – чтобы к Рождеству испечь булки, и вот…
В хате еще темно, но я просыпаюсь от их запаха. Ах, как же радостно ощущать и тепло, исходящее от большого, выбеленного под праздник тела печки, и аромат только что выпеченного лакомства! А еще, – знала я и ждала! – вот-вот от порога донесутся голоса ребятишек, славящих Христа, и от их сбивчивого торопливого лепета с привычным окончанием: «Тётенька, дяденька, с праздником вас, с Рождеством Христовым!» во мне на весь день поселится непонятное (что причиной?), но неизменно светлое чувство.
Мама рассказывала:
«Спрашиваешь, когда церкви громить начали?.. Да их закрывать и рушить стали прямо после Ленина[3 - Владимир Ленин (Ульянов, 1870—1924) – Рроссийский революционер, глава партии большевиков (РКП (б), совершивших переворот 1917 года, руководитель социалистического государства.], когда он до власти добрался, а уж с конца двадцатых так с ними стали расправляться, что только пыль столбом стояла. Помню, раз приехала я в Карачев, гляжу… Казанскую церковь ломають! Ту самую, в которую купец Кочергин электричество провел. Ах, какая же эта светлая и праздничная церковь была, и вот теперя кырками её рушуть. И всё – молодые, комсомольцы! А потоми за Тихоны взялись… И по-ошли, и пошли! Тут уже громили беспощадно, только и слышишь, бывало: там-то церковь ломають, там-то… А мало ли в Карачеве церквей было! Церквей двенадцать, должно: Казанская, Знаменье, Никола, Евсеевская, Кладбищенская, Афонасьевская, Преображение… Вот и не стало слышно звона колокольного над Карачевом, колокола все посняли и увезли.
Всё-ё теперь молодежь упрекають, что стариков, мол, не уважаить. А они-то нешто уважали? Ведь всё поразломали, поуничтожили, что их деды построили! Вот и религию… Ну зачем было трогать? Деды, прадеды молилися, пускай бы, и дети… Ведь вера в Бога приучаить человека, чтобы он не только о себе думал, но и другому зла не делал. И с малых лет это надо в души чистые закладывать, вот тогда-то она, душа человеческая, и привыкнить к добру, пока не зачерствела. Видишь, как дети встречають меня, когда подойду к ним перед сном? «Бабушка, перекрести нас!» Значить, чувствують что-то, значить, ребенку приятное есть в том, что говорю: Господи, да дай же ты им здоровьица, да дай же ты им ума-разума, помилуй и сохрани ото всяких бед и напастей! Спите с Богом. Скажу вот так, перекрешшу… и заснуть. И с таким-то настроением хорошим!»
Вот потому под Рождество у нашей единственной иконы и горела свеча, что драгоценное зерно, заронённое генной памятью и мамой в наши души, всё же взошло, ориентируя в бесконечном пространстве жизни. А потом захотелось и детям вложить похожее: Христос – символ добра, сострадания, прощения, – духовности; его – Христа (добро) – распинают, а он (добро) воскресает; только добром можно защититься и защитить, а если в душе его нет, то – темнота, злом заполняемая.
Семена, некогда заронённые в наши души – та же эстафета памяти. Как в спешных буднях не потушить «факел» добра и веры, когда и какими поступками своими передать детям то, что понесут дальше? Сие зависит от нас.
Граффити на асфальте
«Я люблю тебя!», «Я хочу всегда быть с тобой», «Ты моё всё», «Я хотел сказать, что…», «Извини, краски кончились». По этим откровениям, – на асфальте, белой краской, – мы шагали с ним несколько раз, и был он мне «не другом и товарищем», а просто нечаянным собеседником.
С недавних пор вечерами стала замечать его в скверике, что как раз напротив рощи старых лип и сосен. И обычно сидел он напротив детской площадки, на которой под звон детских голосов мелькают яркие пятна курточек, игрушек, шаров. Потом вставал с насиженного места и начинал ходить туда-сюда по аллее молодых лип, словно переваривая только что увиденное… или вспоминая и своё детство? А думалось так потому, что не смотрел по сторонам… наверное, боясь отвлечься от своих мыслей? И был похож на моего любимого поэта Тютчева поздних лет. «Симпатичный мужчина», – иногда мелькало, – любопытно было бы поговорить с ним и узнать: а есть ли в нём что-то от Федора Ивановича? И вот как-то…
Стояла, прислонившись к стволу вековой липы, и смотрела на противоположную сторону оврага под названием Нижний Судок, который пролёг от сквера к центру города и теперь, в пору разгулявшейся осени, являл собою дивную смесь оранжевых, красных, зеленных оттенков, и вдруг услышала:
– Как увядающее мило! Какая прелесть в нём для нас… не правда ли?
Как всегда, от неожиданности вздрогнула, обернулась, и узнав моего незнакомца, улыбнулась:
– Правда… – И, помедлив, с тою же улыбкой, продолжила строки Тютчева: – Когда, что так цвело и жило, теперь, так немощно и хило, в последний улыбнется раз!
И то был пароль. Незнакомец сразу же открыто улыбнулся, жестом пригласил меня в аллею старых лип и как-то сразу, – слово за слово, фраза за фразой, – завязался меж нами диалог, перетекая от Тютчева к другим поэтам, а потом и к художникам, о которых говорил со знанием терминологии, стилей, направлений. «Наверное, и сам художник» – подумалось, но, постеснявшись, не спросила, а лишь слушала, иногда поддерживая его монологи своими скромными познаниями.
А потом из аллеи старых лип стали мы переходить улицу, чтобы перейти в сквер, и тут перед пятиэтажкой, прямо на тротуаре, под ногами и замелькали те самые надписи: «Я люблю тебя!», «Я хочу быть с тобой»… и он, вдруг остановившись и замолчав на полуфразе, прочитал одну из них: «Ты моё всё».
– Как же мало надо этому… написавшему, – пошутила, – чтобы почувствовать всю полноту жизни!
На что незнакомец, коротко и отстранённо взглянув на меня, ничего не ответил, а через несколько шагов снова остановился и, торопливо попрощавшись, зашагал прочь.
Вечером всё думалось: ну вот, своей неосторожной шуткой огорчила безымянного симпатичного собеседника, но, в то же время, и оправдывалась: ведь есть, есть в этой шутке доля моей правды, с которой мог бы просто поспорить, но нельзя же вот так… сразу «перечеркивать» человека!
И было любопытно: а подойдет ли завтра?
И на следующий день встретил меня – словно ждал! – когда от рощи старых лип шла через переулок к скверу, и почти тут же услышала:
– Вот эти слова, разбросанные на асфальте, – сказал тихо, словно только для себя, перешагивая через ставшие еще более яркими после дождя надписи: – «Я люблю тебя!», «Ты моё всё»… как-то сразу зацепили меня, поэтому… – и взглянул, извиняясь: – Простите уж, что вчера вот так… ушёл вдруг, – и улыбнулся так искренне, что и я расплылась в улыбке. – Эти юношеские иероглифы подтолкнули меня к вопросу: а говорил ли подобное женщинам, которых любил?
Остановился, постоял какое-то время не поднимая глаз, а потом, пригласив жестом свернуть в аллею молодых лип, зашагал чуть впереди. И я послушно пошла за ним, боясь неуместным вопросом опять спугнуть его наметившийся монолог… А, впрочем, наверное, он и не ждал от меня каких-то слов, ибо почувствовал, что могу и хочу слушать, а не говорить.
Этот совсем молодой сквер просто предназначен для раздумий. Казалось бы, ему, треугольником распростёртому меж шмыгающих машин, никогда не удастся сохранить тишину. Ан нет, плотненько, плечо к плечу сомкнувшиеся молодые липки словно оберегают не только тишину, но и огромный Земной шар с трещиной до самой Антарктиды[4 - Памятник жертвам катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Установлен в Брянске 26 апреля 2006 года.]. И не только оберегают, но и создают ауру для задумчивости с трепещущей в ней подсказкой: а так ли живём?.. Но отвлеклась я.
Мой незнакомец идёт рядом и пока молчит. Молчу и я, любуясь резким контрастом черных стволов лип и ярко-желтой листвы, но когда оборачиваюсь, чтобы взглянуть на аллею, уже оставшуюся позади и с которой сейчас свернём в следующую, слышу:
– Так вот… А говорил ли я женщинам хотя бы раз: «Я люблю тебя! Ты – моё всё.»
И мой собеседник смотрит на меня, словно этот вопрос – мне. Улыбаюсь:
– Но ведь… – предполагая, что надо утешить его, пытаюсь найти нужные слова: – Но ведь если Вы любили искренне и глубоко, то не обязательно говорить…
Галина Семеновна Сафонова-Пирус
Рассказы сборника не выдуманы, а сотканы из жизненных наблюдений за теми, кто когда-то был рядом или оказался на случайных «остановках» жизни. А миниатюры – чувствования природы, явлений реальной жизни или обращений к минувшему.
Рассказы. Миниатюры
Галина Сафонова-Пирус
© Галина Сафонова-Пирус, 2016
© Мария Каченовская, дизайн обложки, 2016
ISBN 978-5-4483-1656-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Рассказы
Рассказы не придуманы, а сотканы по моим дневниковым записям или наброскам после очередных или случайных встреч с теми, кто был близок или затронул при общении. А миниатюры – моё восприятие природы, некогда взволновавшее, или короткие зарисовки о минувшем, увиденном и схваченном не только глазом, но и душой.
Семена заронённые
Когда, с каких лет на моём «белом листе» юной человеческой души начали проявляться «письмена», начертанные генной памятью?
Строчки из дневника в тринадцать лет:
«Весь день падает и падает густой снег. Очень красиво, но на улицу я не пошла, а сижу на печке, слушаю по радио музыку и пишу эти строчки. Улей стоит у нас в доме, брат осмотрел пчёл и оказалось, что половина их вымерла. Как жалко! Все лето они собирали мед, гибли в дождь, пропадали в полетах, а мы этот мед у них отняли и вот они погибли от голода. Мама собирается поставить погибшим пчелкам свечку, а мне перед оставшимися даже стыдно, ведь к нам относится цитата Радищева: «Они работают, а вы их труд ядите».
Значит, загорание моего внутреннего света началось в пору смены поры безмятежного отрочества на первые годы юности, которая станет навевать обещания неких радостных, еще расплывчатых «деяний». И дальнейшее преображение моё зависело от тех «семян», которые были заронены теми, кто был рядом, – старшим братом Виктором, мамой, – и если бы тогда погибших пчёлок она просто смела и выбросила, то что осталось бы в моей душе?
А вот уже – подсказка памяти:
Я лежу на печке и с упоением читаю роман «Кавалер золотой звезды»… Удивительно, но отчётливо запомнилось, что именно роман этого, прославленного тогда писателя Семена Бабаевского. Так вот, с увлечением читаю, но входит брат, спрашивает: что за книга? Показываю. А он выхватывает её и бросает в печку. Я – в слёзы! Но он даже и утешать не стал, а только сказал: «Никогда не забивай голову барахлом». И ведь это «семя» тоже проросло, – научилась с помощью Виктора ориентироваться в книгах, выбирая то, что подсказывало не облыжную дорогу жизни. Потом была суверенная «лестница» вверх, с которой открывалась удивительная бесконечность мира, и взбираясь по ней, надо было выбирать крепкую, надежную «ступеньку», чтобы не сорваться вниз.
Когда по утрам слышу редкие удары большого колокола вновь возведённого кафедрального собора, а потом начинают петь-распеваться и другие…
Мурашки – от этого всепроникающего звона!
Почему? Ведь и крещены в православную веру, но не проросла она в нас ритуалами, и детей к максимам православия не приобщали, – каток социалистического атеизма прошелся и по нашим душим, – но всё же под религиозные праздники у нашей единственной иконы «Марии с младенцем» всегда горела свеча.
А вручил нам Богородицу председатель колхоза, – непозволительно было коммунисту держать такое в доме, – а ему Мадонну отдал сельчанин, выловивший символ Православия из реки, ибо тогда, при Хрущеве[1 - Никита Хрущёв (1894—1971) – Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы.С 1959 года начинается массовое закрытие церковных приходов и монастырей, а в 1980-м Хрущев пообещал показать стране «последнего попа».], шло очередное наступление на религию и кто-то, испугавшись, спустил «Марию с младенцем» по течению.
Так вот, горела у нас перед иконой Богоматери свеча, пахло моими свежими булочками… И этот дивный, ни с чем несравнимый аромат только что испеченных булок, живёт во мне с детства, он – моя радующая память.
Нас у мамы было трое, – овдовела сразу после войны[2 - Великая Отечественная война (1941—45)], – и поднимала детей одна, так что, жили мы часто впроголодь, но она всегда сберегала мучичку, – иначе её не называла, – чтобы к Рождеству испечь булки, и вот…
В хате еще темно, но я просыпаюсь от их запаха. Ах, как же радостно ощущать и тепло, исходящее от большого, выбеленного под праздник тела печки, и аромат только что выпеченного лакомства! А еще, – знала я и ждала! – вот-вот от порога донесутся голоса ребятишек, славящих Христа, и от их сбивчивого торопливого лепета с привычным окончанием: «Тётенька, дяденька, с праздником вас, с Рождеством Христовым!» во мне на весь день поселится непонятное (что причиной?), но неизменно светлое чувство.
Мама рассказывала:
«Спрашиваешь, когда церкви громить начали?.. Да их закрывать и рушить стали прямо после Ленина[3 - Владимир Ленин (Ульянов, 1870—1924) – Рроссийский революционер, глава партии большевиков (РКП (б), совершивших переворот 1917 года, руководитель социалистического государства.], когда он до власти добрался, а уж с конца двадцатых так с ними стали расправляться, что только пыль столбом стояла. Помню, раз приехала я в Карачев, гляжу… Казанскую церковь ломають! Ту самую, в которую купец Кочергин электричество провел. Ах, какая же эта светлая и праздничная церковь была, и вот теперя кырками её рушуть. И всё – молодые, комсомольцы! А потоми за Тихоны взялись… И по-ошли, и пошли! Тут уже громили беспощадно, только и слышишь, бывало: там-то церковь ломають, там-то… А мало ли в Карачеве церквей было! Церквей двенадцать, должно: Казанская, Знаменье, Никола, Евсеевская, Кладбищенская, Афонасьевская, Преображение… Вот и не стало слышно звона колокольного над Карачевом, колокола все посняли и увезли.
Всё-ё теперь молодежь упрекають, что стариков, мол, не уважаить. А они-то нешто уважали? Ведь всё поразломали, поуничтожили, что их деды построили! Вот и религию… Ну зачем было трогать? Деды, прадеды молилися, пускай бы, и дети… Ведь вера в Бога приучаить человека, чтобы он не только о себе думал, но и другому зла не делал. И с малых лет это надо в души чистые закладывать, вот тогда-то она, душа человеческая, и привыкнить к добру, пока не зачерствела. Видишь, как дети встречають меня, когда подойду к ним перед сном? «Бабушка, перекрести нас!» Значить, чувствують что-то, значить, ребенку приятное есть в том, что говорю: Господи, да дай же ты им здоровьица, да дай же ты им ума-разума, помилуй и сохрани ото всяких бед и напастей! Спите с Богом. Скажу вот так, перекрешшу… и заснуть. И с таким-то настроением хорошим!»
Вот потому под Рождество у нашей единственной иконы и горела свеча, что драгоценное зерно, заронённое генной памятью и мамой в наши души, всё же взошло, ориентируя в бесконечном пространстве жизни. А потом захотелось и детям вложить похожее: Христос – символ добра, сострадания, прощения, – духовности; его – Христа (добро) – распинают, а он (добро) воскресает; только добром можно защититься и защитить, а если в душе его нет, то – темнота, злом заполняемая.
Семена, некогда заронённые в наши души – та же эстафета памяти. Как в спешных буднях не потушить «факел» добра и веры, когда и какими поступками своими передать детям то, что понесут дальше? Сие зависит от нас.
Граффити на асфальте
«Я люблю тебя!», «Я хочу всегда быть с тобой», «Ты моё всё», «Я хотел сказать, что…», «Извини, краски кончились». По этим откровениям, – на асфальте, белой краской, – мы шагали с ним несколько раз, и был он мне «не другом и товарищем», а просто нечаянным собеседником.
С недавних пор вечерами стала замечать его в скверике, что как раз напротив рощи старых лип и сосен. И обычно сидел он напротив детской площадки, на которой под звон детских голосов мелькают яркие пятна курточек, игрушек, шаров. Потом вставал с насиженного места и начинал ходить туда-сюда по аллее молодых лип, словно переваривая только что увиденное… или вспоминая и своё детство? А думалось так потому, что не смотрел по сторонам… наверное, боясь отвлечься от своих мыслей? И был похож на моего любимого поэта Тютчева поздних лет. «Симпатичный мужчина», – иногда мелькало, – любопытно было бы поговорить с ним и узнать: а есть ли в нём что-то от Федора Ивановича? И вот как-то…
Стояла, прислонившись к стволу вековой липы, и смотрела на противоположную сторону оврага под названием Нижний Судок, который пролёг от сквера к центру города и теперь, в пору разгулявшейся осени, являл собою дивную смесь оранжевых, красных, зеленных оттенков, и вдруг услышала:
– Как увядающее мило! Какая прелесть в нём для нас… не правда ли?
Как всегда, от неожиданности вздрогнула, обернулась, и узнав моего незнакомца, улыбнулась:
– Правда… – И, помедлив, с тою же улыбкой, продолжила строки Тютчева: – Когда, что так цвело и жило, теперь, так немощно и хило, в последний улыбнется раз!
И то был пароль. Незнакомец сразу же открыто улыбнулся, жестом пригласил меня в аллею старых лип и как-то сразу, – слово за слово, фраза за фразой, – завязался меж нами диалог, перетекая от Тютчева к другим поэтам, а потом и к художникам, о которых говорил со знанием терминологии, стилей, направлений. «Наверное, и сам художник» – подумалось, но, постеснявшись, не спросила, а лишь слушала, иногда поддерживая его монологи своими скромными познаниями.
А потом из аллеи старых лип стали мы переходить улицу, чтобы перейти в сквер, и тут перед пятиэтажкой, прямо на тротуаре, под ногами и замелькали те самые надписи: «Я люблю тебя!», «Я хочу быть с тобой»… и он, вдруг остановившись и замолчав на полуфразе, прочитал одну из них: «Ты моё всё».
– Как же мало надо этому… написавшему, – пошутила, – чтобы почувствовать всю полноту жизни!
На что незнакомец, коротко и отстранённо взглянув на меня, ничего не ответил, а через несколько шагов снова остановился и, торопливо попрощавшись, зашагал прочь.
Вечером всё думалось: ну вот, своей неосторожной шуткой огорчила безымянного симпатичного собеседника, но, в то же время, и оправдывалась: ведь есть, есть в этой шутке доля моей правды, с которой мог бы просто поспорить, но нельзя же вот так… сразу «перечеркивать» человека!
И было любопытно: а подойдет ли завтра?
И на следующий день встретил меня – словно ждал! – когда от рощи старых лип шла через переулок к скверу, и почти тут же услышала:
– Вот эти слова, разбросанные на асфальте, – сказал тихо, словно только для себя, перешагивая через ставшие еще более яркими после дождя надписи: – «Я люблю тебя!», «Ты моё всё»… как-то сразу зацепили меня, поэтому… – и взглянул, извиняясь: – Простите уж, что вчера вот так… ушёл вдруг, – и улыбнулся так искренне, что и я расплылась в улыбке. – Эти юношеские иероглифы подтолкнули меня к вопросу: а говорил ли подобное женщинам, которых любил?
Остановился, постоял какое-то время не поднимая глаз, а потом, пригласив жестом свернуть в аллею молодых лип, зашагал чуть впереди. И я послушно пошла за ним, боясь неуместным вопросом опять спугнуть его наметившийся монолог… А, впрочем, наверное, он и не ждал от меня каких-то слов, ибо почувствовал, что могу и хочу слушать, а не говорить.
Этот совсем молодой сквер просто предназначен для раздумий. Казалось бы, ему, треугольником распростёртому меж шмыгающих машин, никогда не удастся сохранить тишину. Ан нет, плотненько, плечо к плечу сомкнувшиеся молодые липки словно оберегают не только тишину, но и огромный Земной шар с трещиной до самой Антарктиды[4 - Памятник жертвам катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Установлен в Брянске 26 апреля 2006 года.]. И не только оберегают, но и создают ауру для задумчивости с трепещущей в ней подсказкой: а так ли живём?.. Но отвлеклась я.
Мой незнакомец идёт рядом и пока молчит. Молчу и я, любуясь резким контрастом черных стволов лип и ярко-желтой листвы, но когда оборачиваюсь, чтобы взглянуть на аллею, уже оставшуюся позади и с которой сейчас свернём в следующую, слышу:
– Так вот… А говорил ли я женщинам хотя бы раз: «Я люблю тебя! Ты – моё всё.»
И мой собеседник смотрит на меня, словно этот вопрос – мне. Улыбаюсь:
– Но ведь… – предполагая, что надо утешить его, пытаюсь найти нужные слова: – Но ведь если Вы любили искренне и глубоко, то не обязательно говорить…