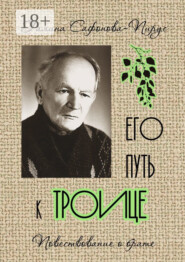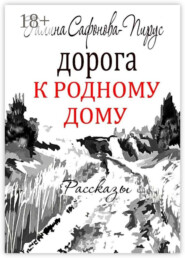По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рассказы. Миниатюры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А-а, это ты! —обрадованно улыбнулся и взглянул на гостей: – Ба, да ты не одна!
По тропинке коридора, заставленного разным скарбом, пробрались к двери в хату.
– Подождите, сейчас свет вам включу, – уже открыл дверь Алексей и опять же, по тропинке, окаймлённой бордюром из пожиток, потянулись за ним в соседнюю комнату. Слева, возле давно немытого окна приткнулся стол с небрежно раскинутыми книгами, стопкой чистой бумаги, листами копирки и банкой супа, возле него – низкое кресло с накинутой и словно распростёртой старой шубой, перед ним – пишущая машинка с абзацем отпечатанного текста, а справа – кровать со сбитым одеялом и овчинным тулупом, на котором серым комочком свернулась кошка.
– Да вот, прибилась, – заметил мой взгляд Алексей: – Есть и еще одна с двумя котятами, приходится кормить…
Пройду, закрою ящик, в котором хозяин хранит свои пищевые запасы, накину на него подвернувшийся клочок какого-то меха, присяду, позову Дину:
– Проходи, садись на кровать, пока мы тут с Алексеем…
И она присядет, поправив одеяло, соскальзывающее на пол и взглянув на словно застывшую кошку, а сын с её мужем так и останутся стоять в проёме двери, оглядывая «интерьер» хаты и иногда похихикивая: и для чего, мол, ему всё это барахло?.. а паутина-то… ха-ха!.. и на потолке висит, и по углам!.. на что Алексей, коротко взглянув на них, усмехнётся:
– Да так… с барахлом и паутиной уютней и теплей.
И услышит от Ефима:
– Вы бы лучше со стороны улицы дыру над окном заколотили, чтоб не дуло.
– Да надо б заколотить, – тихо скажет Алексей, – но всё как-то некогда, роман время отнимает… каждый день до четырех часов утра над ним сижу.
– Ну и зря, – опять прозвучит категоричный совет: – Писать надо днём, а ночью спать.
Но на это ответа не последует, а Дина взглянет на меня, и в этом её взгляде уловлю: ну, зачем, мол, Ефим… со своими советами? Да, зачем?.. подумаю и я, ведь понять Алексея ему, живущему в уютной квартире под неустанной заботой жены невозможно. И, чтобы заштриховать вдруг повисшую неудобную паузу, фальшиво оживлюсь:
– Ой, я же не представила тебе моих друзей…
И, назвав их, выну из пакета суконные ботинки и комбинезон, купленные по телефонной просьбе Алексея:
– А вот и заказ твой, писатель, принимай.
И он засветится радостью:
– Ну спасибо! Ну, угодила! – сразу станет примерять обувь. – А то те, что на мне, слегка поизносились, и приходится дырки клочками затыкать, – засмеется.
– Сходили б и купили новые, – опять не сдержится Ефим.
И Алексей, взглянув на меня, – да ладно, мол, не огорчайся из-за него, – ответит:
– А пойти купить новые уже не могу… возраст… ноги плохо подчиняются.
И опять с улыбкой начнёт разглядывать комбинезон.
– Алекс, – назову его сокращенным именем, – если комбез покажется тебе не очень теплым, то позвони… приеду, заберу, утеплю синтепоном и зимой, в твоей продуваемой всеми ветрами хате, мороз тебе будет нипочём.
Минут через десять сын и Ефим, поторопив нас с отъездом, ушли в машину, а я, спеша договорить то, что хотелось, взглянула на Дину:
– Если хочешь, иди и ты… я еще пару минут тут, с Алексеем…
Но она останется и, взглянув на кошку, всё тем же комочком сереющую в уголке, протянет руку, чтобы погладить её, но почему-то отдернет, а потом молча будет вглядываться в Алексея, бродить взглядом по столу с листами отпечатанного текста, по полке с книгами, по непонятному скарбу в углу, но каждый раз снова и снова возвращаться к иконе Спасителя, висящей в углу и чуть заметному огоньку лампады.
Вскоре сядем в машину и мы. Сын постоит рядом с Алексеем, приобнимет его, шепнёт что-то на ухо, а когда сядет за руль, и машина развернётся, то через забрызганное окно увижу: Алексей будет стоять, опираясь на костыль и крестить нас вослед.
Вначале ехали и молчали, а потом со своего первого сидень я услышала:
– Ну и живет же твой знакомый…
Обернулась, удивлённо взглянула:
– А что… что ты имеешь ввиду?
Фыркнул презрительно, усмехнулся:
– Не хата, а берлога какая-то. Разве можно так жить? Я бы и дня не выдержал.
– А зачем тебе выдерживать? У тебя чистенькая квартира… с заботливой женой, – попыталась смягчить его агрессивный настрой.
Но он не принял моей робкой шутки и стал возмущаться, что, мол, нельзя так… надо было бы продать этот старый дом… надо было бы как-то по-другому устроиться в жизни, а не писать роман, который никому не нужен, да и вообще надо было… На все выпады мужа Дина ничего не отвечала, отвернувшись к окну и глядя через исхлёстанное дождём стекло на метущиеся мокрые кусты, деревья, считаемые телеграфными столбами, но когда Ефим, успокоив себя выплеснутым недовольством, замолк, то всё так же глядя в окно тихо сказала:
– Алексея в такой обстановке только писание романа и спасает.
И я с благодарностью подумала: какая же молодец моя Мадам Энзим, что поняла Алексея… и меня.
Она сварила утреннюю кашу, стала выкладывать в тарелочки и ложка зазвенела о стенки кастрюли. «Словно трезвоню, – опять подумала. – И он слышит, а не идет».
Но пришел.
– Слышал, по ком звонил колокол? – опять пошутила, усмехнувшись.
– Звон-то слышал, а вот по ком…
– А по нас он… вернее, для нас.
– Зачем? – тоже усмехнулся.
– А затем, чтобы барахтались, насколько хватит сил, искали свои «биогенные стимуляторы» и постоянно прислушивались к себе: а не смолк ли колокол, который…
– Который ты устраиваешь по утрам? – опять усмехнулся Ефим, дав понять, что не хочет дальше слушать.
И она замолчала. Но как часто с ней и бывает, додумала про себя: а ведь и он мог бы не потерять себя, когда спонсоры предложили ему открыть салон для выставок, но отказался, испугавшись хлопот, тем самым списав себя и как художник. Так зачем же говорить ему об этом теперь?
И снова я с Мадам Энзим на взгорье нашей, еще не совсем непричёсанной рощи, но сегодня над нами не серое клочковатое покрывало, сочащееся моросью, а вечерняя бирюза со слоистыми улыбающимися облаками, робко подсвеченными розоватым светом предзакатного солнца. Как же благостно сидеть на нашем любимом валуне и видеть перед собой осенние светло охристые заречные луга, посёлок с шапками желтеющих деревьев и церквушкой среди них, темнеющую полосу дальнего леса. И не хочется думать, а просто смотреть бы и смотреть на этот удивительный дар жизни, чтобы, сберегая в душе, потом вновь и вновь вызывать, всматриваться в чудные панорамы. Но вдруг слышу:
– Ты знаешь… – и по глазам Дины понимаю, что собирается сказать нечто, её взволновавшее: – Вчера по телевизору посмотрела фильм о французском ученом Паскале[9 - Блез Паска?ль (1623—1662) – французский математик, механик, физик, литератор и философ.]… – Подумалось: Дина, не надо бы сейчас о Паскале… но промолчала. – А утром за завтраком нечаянно вышли с Фимой на вопрос: по ком… а, вернее, зачем звонит колокол?
– И зачем же? – заинтересовалась. – Так вот, теперь знаю… Звон колокола напоминает, что Бог создал нас по своему образу и подобию, а, значит, всю жизнь должны мы хранить не только его образ, но и крохами дел своих стремиться к его подобию, постоянно прислушиваясь: а не смолк ли мой колокол? – Замолчала, поняв, наверное, что сказанное литературно и пафосно, но не услышав меня, продолжила: – Так зачем я – о Паскале… В сорок девять лет с ним случилась апоплексия и казалось, что жизнь кончилась. Но смог вытащить себя! И увидеть вершину, на которую должен был подняться, сделав множество спасительных для человечества открытий. И дожил до восьмидесяти, а когда умер, то на могиле люди оставили некролог: «Спасителю – от благодарного человечества». – Дина встала, сделала несколько шагов к крутому спуску взгорья, постояла там и, неспешно раскинув руки… словно пытаясь взлететь над заречными далями, сказала: – Так и знакомый твой… Алексей. – Опустила руки, обернулась ко мне: – Он и теперь слышит звон колокола, покоряя свою вершину. – И тихо добавила почти для себя: – Наверное, таким думается: а иначе и жить-то зачем?
За Бланкой – в клетку