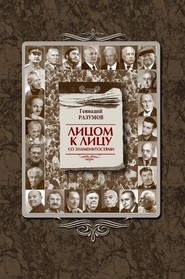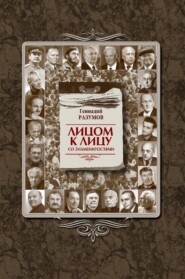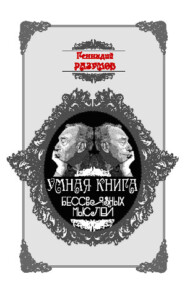По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зебра полосатая. На переломах судьбы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Был с Лерой и Котом на концерте Зандерлинга – блеск. Играли Баха. Он мне всегда казался сложным композитором. А оказалось, ничего подобного, музыка понятная и очень сильная.
К папе езжу редко. Очень скучаю иногда по нему, а когда встречаюсь, говорить не о чем.
Приезжала ко мне одна девушка из 6-ой группы, Роза Хесина. Симпатичная, но очень уж деловая такая, холодная. Занимался с нею теормеханикой. Потом проводил до метро.
Набрал уйму беллетристики: Блок, О.Генри, Р.Ролан (“Кола Брюньон”), Дин-Лин (“Солнце над рекой Саньгань”), Шишков и еще что-то. Понемногу читаю.
Расчитал уже все по сопромату (курсовая работа) и сдал Уставы по военному делу. Теперь лоботрясничаю.
Смотрел в Клубе шоферов “Первый бал” с Диной Дурбин. Здорово!
29/I-54 г. Сегодня кончилась предпоследняя сессия. Вылез опять в отличники. Зачем? Неизвестно, сам не знаю. Слушал “ПерГюнт” Грига – сила, создает настроение. Муся – не интересна, но, кажется, втюрилась в меня. С Галей ничего не вышло, если не считать средней силы стишка… И вообще, я понял, что никогда не буду полностью счастлив. Так, как я мечтал. Разве могу я думать о великой всепобеждающей любви, когда я, даже целуя девушку, думаю: “а зачем это?” или “не опоздаю ли я на трамвай?”. Обидно, глупо и грустно…
22/VI-54r. В субботу сдал последний в эту последнюю в институте сессию госэкзамен. Неужели последний в жизни?
А как быть со сдачей другого, не менее важного, но более сложного для меня испытания – экзамена за место среди людей. О чем я? Да все о том же, о моем дурацком характере. Дело в том, что я сплошной индивидуалист и совершенно не способен существовать в коллективе. И все потому, что я совсем не умею ко всему относиться легко и просто, в том числе, не умею отшучиваться. Ведь все любят смеяться, в том числе и подшучиваться друг над другом, причем, поводы для этого отыскивают зачастую самые идиотские. А я вот> когда надо мной подтрунивают, обижаюсь, надуваю губы и чувствую себя погано. Не я ли сам идиот?
18/IХ-54 г. Вот я – дипломник. В ноябре – направление на работу. Ой!
С этим “направлением” были связаны самые главные тревоги, волнения, надежды, замыслы, мечты. От него зависело стартовое начало профессиональной и житейской судьбы. Вообще-то официально нам представлялась возможность самим выбирать место службы, которое мы должны были отработать в ближайшие 3 года. Для этого на стене возле деканата вывесили списки вакансий, среди которых одни были очень привлекательные, заманчивые, а другие, наоборот, бросовые, никчемные, даже пугающие. К привилегированным относились должности сотрудников научно-исследовательских и проектных институтов, а также преподавателей техникумов. Многие из них находились в Москве. Но таких мест было всего ничего, и, как считалось, их давали в первую очередь семейным, во вторую – отличникам. Большинство же выпускников института должны были мотать свои обязательные сроки на Великих стройках коммунизма в Сибири, на Волге, в Средней Азии и Закавказьи. Ведь, собственно говоря, для этого и был затеян 4 года назад наш Зимний набор.
На самом деле, нашу судьбу решали вовсе не мы сами, а специальная Комиссия, состоявшая из представителей разных строительных Управлений, проектных институтов и прочих учреждений. Подозреваю, что многие из тех серопиджачных неулыбчивых незнакомцев, которых мы тогда ежедневно провожали тревожными взглядами в деканат, были эмведешными кадровиками и работниками спецотделов. Недаром они так строго блюли соответствие предлагаемых должностей анкетным данным каждого из нас.
Как обладатель “красного диплома” (на курсе нас было всего 4 человека), я, конечно, думал попасть в один из НИИ или по крайней мере хотя бы остаться в Москве. Но властьимущая Комиссия думала иначе.
Комиссионный председатель, протягивая мне лист формуляра с моим согласием, приказным тоном сказал:
– Подпишите вот здесь, внизу.
Дрожащей рукой я взял бумагу, посмотрел и вздрогнул – меня посылали работать на строительство Куйбышевской ГЭС на Волге.
– Но как же, как же так, может быть, есть другие варианты…? – растерянно спросил я, заикаясь.
– К сожалению, все остальное уже разобрано. Хотя, подождите-ка, – он порылся в бумагах, – вот-вот, есть еще одно место в Управление “Туркменгидрострой”. Если хотите, пожалуйста.
Я стоял огорошенный, огорченный, обиженный и не знал, что делать, что сказать. Насупясь, опустив низко голову и разглядывая свои носки, я с трудом все-таки выдавил из себя:
– Если можно, разрешите, я подумаю… немного…
– Ну, ладно, – после паузы ответил председатель, – только учтите, ничего другого мы вам предложить не сможем.
Потянулись часы и дни мучительных раздумий, сомнений, колебаний. “Это же несправедливо, что за дела такие, – жевал я мысленную жвачку, гоняя в башке случившееся с наивностью пятиклассника, – у меня же диплом с отличием, а они, подлюги, в самый конец списка меня поставили, когда все хорошие места уже ушли. А вон тех двух блатных даже вне списка в аспирантуру взяли”.
Обидно было, больно. Оказалось, что мое только что созревшее самолюбие может быть так легко, так бесцеремонно попрано грязным сапогом эмведешного антисемитизма. Я страдал, горевал, ходил мрачный, убитый. Но потом стал интересоваться: а как обстоят дела у других? Вон Толя Мещанский, получивший направление на тот же Туркменский канал, поперся в Минсельхоз и выклянчил себе направление в московский Гипро, а Гера Шейнфельд тоже ловко подсуетилась – быстренько выскочила замуж и осталась в Москве.
Но как-то оба варианта мне были не только не по плечу, но и не по вкусу. Посуетившись мозгами, я однажды вдруг подумал: “А, может быть, ничего страшного в поездке на великую стройку века и нет, даже чем-то интереснее просиживания штанов в конторе. Может быть, и не стоит рыпаться, а согласиться, махануть на стройку, сбежать от мамы-папы, понаслаждаться самостоятельностью, понюхать настоящей жизни, хватить романтики. Всего-то ведь на 3 года”.
И, обмозговывая такой путь развития событий, я ту трехлетнюю обязаловку постепенно начал представлять в виде некой турпутевки, поездки в манящее неведомое будущее, а ее непредсказуемость и опасность стала горячить мне кровь и поднимать уровень адреналина (или тестостерона?).
Ну, конечно, сразу я никуда не поехал. Болтался без дела по Москве, встречался с приятелями, девчонками, ходил на каток, в лес на лыжах, таскался по кинушкам, театрам, концертам – в общем, вел приятную житуху без зачетов, лекций, семинаров, экзаменов и курсовых работ. Только в конце марта я, наконец, созрел для прыжка в пропасть туманной неизвестности.
Глава 4
Великая стройка коммунизма
На зоне ГУЛАГа
Это был один из самых богатых событиями отрезок начального периода моей жизни. Но напрасно я его так уж романтизирую. На самом деле, он послужил мне просто некой послеучебной производственной практикой, наподобие ординатуры, которую обычно проходят будущие врачи, оканчивающие медицинские институты.
А большинство полудетективных историй, оставшихся в моей памяти, происходили даже не со мной и моими друзьями. Они пришли ко мне из полумифологических устных рассказов, которые суровыми предостережениями или забавными анекдотами разбавляли бытовуху квартирных кухонь, общежитийских застолий, гостиничных посиделок. То время вообще очень густо насыщало меня жизненным опытом, хотя мое пребывание на строительстве Куйбышевской ГЭС и длилось всего ничего – меньше года.
Среди ярких воспоминаний о первых неделях моего вхождения в новую загадочную быль стало знакомство с Толей Берлиным, худощавым короткобородым молодым человеком, моим сверстником. Я разыскал его с подачи кого-то из московских приятелей, передавший для него наглухо заклеенное письмо. Последнее важно подчеркнуть, так как времена (1955 год) еще тогда были непонятно-туманные, а в том послании, по-видимому, таилось нечто не предназначенное для посторонних глаз.
Я подошел к небольшому покосившемуся домику, доживавшему, как и весь Ставрополь-на Волге, свою последнюю весну. Через 3–4 месяца ожидалось его погружение в темную пучину Куйбышевского водохранилища. На пологом речном берегу уже высились горы крупнообломочного камня, готовившегося к перекрытию русла.
На калитке висела свирепая морда немецкой овчарки, выразительно скалящаяся с замысловато вырезанного фанерного листа. Много лет спустя я такую же картинку видел на раскопах заваленной вулканическим пеплом античной Помпеи. Острые собачьи клыки многоцветными мозаиками бессловесно останавливали воров перед входными дверями вилл древнеримских патрициев. В отличие от них, нынешние новорусские домовладельцы без слов не обходятся и на кованых воротах своих дворцов вывешивают никого не пугающие объявления: “Во дворе злая собака”.
Я вошел в дом. Это был луч света в темном царстве. В царстве режимной сталинской стройки, в мире лагерного беспредела, злобы, бесконечного мата-перемата, липкой тягучей цементносуглинистой грязи.
Светлый луч был небольшой комнатой в избе-пятистенке, оформленной в смелых авангардистских традициях какого-нибудь мейерхольдовского спектакля. Под потолком висела люстра, сделанная из простого оцинкованного ведра с искусно вырезанными шестиконечными звездами, лунными серпами и девичьими головками. Столом служила грузовая тележка с большими колесами, ее удобно было откатывать в угол, освобождая пол для танцующих каблуков.
А те ловко отстукивали румбу, фокстрот и танго, выкалываемые короткой патефонной иглой из ещё тогда только пластмассовых, а не виниловых пластинок. Музыка, танцы, песни, стихи и просто кухонный трёп были милым кусочком моей бывшей студенческой Москвы. Я стал приникать к нему каждый вечер.
Володя жил со своей подругой-женой Тусей Тобидзе, высокой худощавой брюнеткой, то ли родственницей, то ли однофамилицей знаменитого грузинского поэта. Она училась на последнем курсе заочного института, а в перерывах между болтовней с приятельницами и танцами-шманцами довольно усидчиво долбала какие-то учебные премудрости.
Володю выперли с 4-го курса московского Архитектурного.
– За что? – Спросил я его как-то.
– За то, что поглощенный диаматом я вдруг ругнулся матом, – скаламбурил он. – И очень напугал ведшего тот роковой для меня семинар доцента-долдона, работавшего раньше на Старой площади. Всего-то спросил, как сочетается вкус паюсной икры в цековской столовой с принципом соцсбережения. Вот и отчислили меня за неуспеваемость.
А я понял, что родители Берлина, безродные космополиты, поспешили отправить сына из Москвы от греха подальше – времена ведь стояли людоедские, предсмертные.
Володя был ловок и рукоделен во всем, за что брался. Он здорово рисовал, играл на гитаре, пел под Козина и Вертинского. А проявляя свой художнический талант, лепил не только забавных зверушек из белой глины, но и вкусные пельмени из ржаной муки. Пока Туся писала свои курсовые, он мастерил книжные полки, собирал детекторный приемник с радиолой, варил борщ, мыл полы и стирал белье.
Много позже с Володей и Тусей мы встретились уже в Москве. Они жили на Кривоколенном переулке в большом старинном доме. Крутая лестница заставила меня попыхтеть, пока я добрался до 7-го этажа (наружных фасадных лифтов у старых домов тогда еще не было). Косяки обитой дерматином двери усеивали кнопочные звонки с бумажными наклейками, обозначавшими имена соседей этой коммунальной квартиры. Я нажал на “Берлин”.
Высота потолков в этом буржуйском доме намного превышала свои аналоги в только что начавшихся строиться панельных хрущевках. А после дружеских объятий с Володей и Тусей мне довелось и оценить, как изобретательно он использовал эту самую высоту.
Их небольшую комнату в коммуналке недоучившийся талантливый архитектор преобразовал в фактически двухкомнатную квартиру. И не простую, а двухэтажную. Как? Очень просто и очень ловко – пристроил на одном столбе и четырех настенных кронштейнах широкую антресоль. На ней стояла кровать, две тумбочки и трюмо. Настоящая спальня. Необычность этого жилья дополняло стильно подобранное буйство цветного многообразия. Все восемь стен комнаты-квартиры были выкрашены разным колером, и это каким-то поразительным образом расширяло пространство. Такое вот было авангардистское чудо.
Но в той ставропольской хибаре стены раздвигали фокстротовые ритмы, гитарные аккорды, громкое многоголосье и веселый хохот. А потолок поднимался к чердаку от самогона и черноголовой водки, которые после зарплаты облагораживались шампанью и шартрезом. В те часы моя начавшаяся взрослая жизнь становилась прекрасной и удивительной.
* * *
Прибыл я в распоряжение “Куйбышевгидростроя”. Русло Волги тогда еще не было перекрыто каменно-земляным банкетом, и основные строительные работы велись в котловане правого берега – там возводилась водосливная часть плотины и здание гидроэлектростанции. Меня определили в Технический отдел Района № 1, где шло бетонирование и монтаж оборудования ГЭС.
Начальником был строгий неулыбчивый хохол с вызывающей нехорошие ассоциации фамилией Шкуро. Не знаю почему, но с первого момента, как только мне пришлось предстать перед его необъятной величины столом, я почувствовал: он меня во вверенном ему кабинете не потерпит.