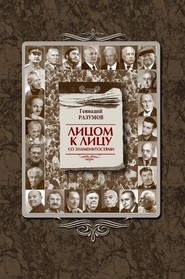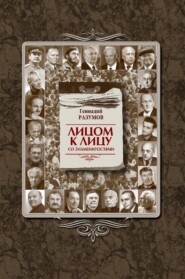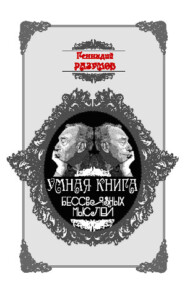По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зебра полосатая. На переломах судьбы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вообще, думал я, почему общественное считается важнее личного? Неужели я должен больше заботиться об уменьшении пены в кружках пива для рабочих фабрики “Заря”, чем о моей завтрашней сдаче экзамена по сопромату? Что такого общего может быть у меня с дикой толпой орущих поддатых идиотов на стадионе Динамо? С какой стати, с какого конца мне может быть ближе запрос доярок подмосковных Химок по поводу получения доильных сосок, чем мой собственный интерес в приобретении дефицитного абонемента на приближающийся сезон концертов классической музыки в зал Чайковского?
Много подобных вопросов задавал я себе, слушая назойливые славословия отметившего тогда свое 70-летие великого вождя, учителя товарища Сталина, и долбая к зачетам по диамату тягомотные догмы набившего оскомину научного коммунизма.
Вначале для меня были подозрительными, а со временем стали даже омерзительными все лозунги, включавшие в себя аморфное тошнотвортное название – народ. В свое время во имя, якобы, него клал своих врагов под нож гильотины “друг народа” фанатик Робеспьер, им клялись шедшие, будто бы, “в народ” русские бомбисты “народники”, взрывавшие кареты всех с ними несогласных, вплоть до царя-освободителя Александра II. И особенную неприязнь вызывали у меня проклятия “врагам народа”, которых ежовско-бериевские черные воронки по ночам увозили на московскую Лубянку и в ленинградские Кресты.
С годами мне становилось все яснее, что под понятием “народ” стоит толпа, которую, как не выстраивай в колонну или шеренгу, как не выравнивай строй, она так и останется именно толпой – безликой, тупой, страшной, беспощадной. Или соберется в этакую агрессивную злобную стаю. Я с детсадовского и школьного детства всегда боялся стихийного или даже сорганизованного скопления себе подобных. Взявши друг друга за руки, они сразу перестают быть личностями, и становятся одним безликим зловредным чудовищем, диким монстром.
Наверно, поэтому я и никогда не увлекался никакими групповыми видами спорта, не был футбольным или хоккейным фанатом, не болел ни за “Спартак”, ни за “Динамо” и с презрением смотрел в ящик, когда в нем появлялись пьяные рожи орущих и размахивающих руками завсегдатаев перегруженных ими стадионов.
А еще я стал все чаще задумываться о сволочном характере любой идеологии, будь она коммунистической, фашистско-нацистской, христианской, иудейской или мусульманской. Каждая из них – преступно навязываемая ложь. И неважно, впаривается ли она нам искренне верящими в нее фанатиками типа святого Павла (Саула), Лютера, Маркса, Троцкого, Ленина или используется для захвата и удержания власти такими живоглотами, как Карл Пятый, Торквемада, Гитлер, Сталин, Кастро. Никакого прощения не заслуживают эти мерзавцы, прикрывавшие свои страшные зверства овечьими шкурами подкрашенных в красное, черное или зеленое человеко-ненавистнических теорий.
Погибшая от голода при “военном коммунизме” девочка из тамбовской деревни, разрубленный до седла новобранец 1-ой Конной, подвешенный за ребро на дереве еврей-ювелир из Гомеля – разве это не преступления носителей двуличных лозунгов-обманок “Великой Октябрьской революции"? И как можно оправдать националистическими бендеровскими бреднями о “Самостийной Украине” зверскую расправу с моей ни в чем не повинной тетей Бетей, осенью 1942-го утопленной фашистскими полицаями-хохлами в публичном клозете на Ришельевской улице в Одессе?
И что от того, что эти вредоносные подлые теорийки были в будущем осуждены и, как старые портянки, выброшены на помойку истории? Ее взад уже не повернуть, погибших не воскресить, убийц не оправдать.
Товарищ Куев
Помимо производственных практик наша пятилетняя студенческая обыденщина разбавлялась еще и двумя летними военными сборами, состоявшимися после 2-го и 4-го курса. На пару-тройку недель мальчишеская часть нашего курса поступала в распоряжение инженерных войск СССР, занимавшихся учебным строительством фортификационных сооружений: дотов, дзотов, блиндажей, возведением мостов, ракетных и радарных установок.
Воинская часть, куда мы были посланы, дислоцировалась в районе городка со старинным названием Борисоглебские слободы (Ярославская область). В подтверждение своего православного прошлого неподалеку от нашего лагеря зыркали на нас пустые глазницы кирпичных башен монастыря XIV века, недавно еще бывшего одним из островков сталинского ГУЛАГа.
Если вторая военная практика была более менее “умственной" – мы работали на местности с картами, наводили переправу, строили мост, устанавливали понтоны, рыли окопы – то первая была почти вся тупой муштрой и тяжкой солдатчиной.
Нас прессовал тридцатилетний старшина с подозрительной фамилией Куев, который давил нас строевой подготовкой, сводившейся главным образом к утомительной до кровавого пота шагистике.
– Ша-агом арш, – громко кричал этот солдафон высоким визгливым голосом. – Правое плечо вперед. Раз, два, три. Левой, левой, левой. Эй, направляющий, пе-есню за-апевай. Раз, два, три, раз, два, три. Давай, давай. – И через некоторое время с издевкой добавлял: – Это вам не сопромат, здесь думать надо.
Когда мы уже начинали валиться с ног, он командовал “вольно!”, позволял скинуть с плеч тяжеленные винтовки-токаревки и душившие горло колючие шерстяные скатки (шинели). Затем по команде товарища Куева “свернуть курки” все становились в ряд, расстегивали ширинки и мощными молодецкими струями поливали придорожные кусты и осины. Многократно удобренные мочевиной, сульфатами и нитратами они нависали над дорогой крупными ветвистыми росляками.
Больше всего мне досаждали портянки, которые никак не хотели ровно накручиваться на мои тощие ноги-спички. Эти тряпки, сбиваясь в кирзовых сапогах неровными комками, натирали ступни, щиколотки, икры, и я постоянно страдал от воспалявшихся ссадин, натоптышей и кровяных ран. Поэтому я облегченно вздыхал, когда вместо мучительно трудных долгих переходов нам давали задание ползти по-пластунски – хотя при этом нам приходилось здорово вымазываться болотной грязью и суглинистой пылью, зато хоть ноги отдыхали.
И еще очень доставали противогазы – в них и с полной выкладкой на плечах нас заставляли делать пробежки, вверх и вниз по пересечёнке, иногда по целому километру. А этот гад Куев бежал с нами рядом и орал на тех, кто, поддерживая правой рукой бьющий по заду приклад винтовки, левой отводил от лица резину противогаза.
Жили мы повзводно в палатках-брезентухах на 6-10 железных коек. Были бы уши у лесной поляны, где стоял лагерь, она могла бы порадоваться цветистости и гибкости русского языка. Кроме громкого птичника юных голосов и отборного витиеватого мата, можно было также оценить важность такой приставки, как “о”, присутствие которой меняло смысл сказанного. Так, при команде “Очистить территорию” все должны были срочно убегать в лес. А вот приказ “чистить территорию” заставлял по наряду вне очереди часами махать по траве тяжелой метлой, убирая бумажки, окурки, жестянки и особенно нахальные шишки, которые, падая с деревьев, колючими кучами беспощадно заваливали землю.
Кормили нас простой солдатской пищей – щами, кашами, картошкой с мясом и чаем со сгущенкой. Эту еду дневальные на весь взвод варили в огромном железном чане, который, по случаю полного отсутствия каких-нибудь моющих средств, дежурным приходилось отдраивать до блеска песком и промывать в протекавшей рядом речке. Также простецки велась “борьба” с желудочными инфекциями при очистке ложек, вилок и прочих нестрелковых инструментов.
Однако, вовсе не этот метод помывки пищевого инвентаря вызывал рвотный рефлекс у некоторых брезгливых чистюль. Их щепетильность нередко подвергалась испытанию более изощренным способом. Приведу пример, связанный с почти полным оголоданием моего приятеля Толи Мещанского, которого по возвращении домой мама долго откармливала. А все из-за его избыточной впечатлительности, не позволявшей его прикасаться к еде, сваренной в том самом железном чане. В чем было дело?
А в том, что с самых первых дней нашего пребывания в лагере его воспаленное воображение стало подвергаться тяжелым испытаниям. Началось с того вечера, когда один из завзятых хохмачей нашего курса Борька Биргауз, доверительно склонившись к толиному уху, с возмущением рассказал, что сам видел, как после наступления темноты дежурный из соседнего взвода пописал прямо в только что сваренную овсянку. От этой информации у бедного Толи горло заблокировалось рвотным спазмом и никакую кашу он есть уже не смог. Естественно, этот случай послужил спусковым крючком для бомбардировки мозгов впечатливого недотепы многодневной картечью неприхотливого солдатского юмора.
Кроме рытья траншей и уборки территории, в работу, развивающую наши неспортивные бицепсы-трицепсы, входило перетаскивание бревен, заготовка сушняка, валежника, пилка и колка дров на зиму. Наиболее трудным было пополнение запасов водонапорной башни, для чего нас использовали в качестве водокачки. Мы становились шеренгой и передавали от одного к другому тяжелые ведра с зачерпанной в реке водой. Особенно доставалось крайним, которым приходилось по шаткой лестнице поднимать ведра вверх. Отбывая как-то такую водоносную повинность, я написал лукавый стишок в ротную стенгазету:
Дежурный! Помни у роты рты
В жару пересохли от жажды.
За каждую каплю холодной воды
По гроб тебе должен каждый.
* * *
Плотно легло на полку памяти и одно неординарное событие, связанное с приоткрывшейся было передо мной крохотной щелки в железном занавесе, защищавшем нас от тлетворного влияния прогнившего Запада.
Были у нас в институте на Разгуляе почтовые ящики, куда поступали письма для студентов, приехавших учиться в Москву из других городов. Но вот в ноябре 1953 года, к моему крайнему удивлению, я тоже получил письмо, причем не из какой-то там южнорусской Жоповки или западносибирского Мочеписка, а из самой, что ни есть, Заграницы. А в то время (хотя Усатый вот уже как полгода отдал концы) для такого, как я, ничем не выдающегося простолюдина, да еще еврея, было настоящим чудом. Что же за письмо меня достало? Да вот оно:
Здравствуйте, дорогой товарищ Евгений!
Может быть, Вас удивит, кто Вам пишет. Мы, девушки из далекой Чехословакии интересуемся жизнью трудящихся и учащихся СССР и хотели бы переписываться с советскими друзьями.
Я учусь в 4-м классе педагогической школы в Градце Королевы. После сдания экземов я хочу поступить на высокую школу русского языка. Мне 18 лет, я уже 2 года членка Союза сотрудничества с армией и 1-ый год я занимаюсь планеризмом.
Мои родители – члены Единого сельского кооператива III-го типа в нашей деревне, это 11 километров от города. Они работают за то, чтобы наша деревня стала социалистической.
Я тщусь, что Вы мне скоро напишете. Желаю Вам много успехов в Вашей школьной и комсомольской работе.
Ева Менцакова.
Педагогическая школа, площадь Ленина,
Градец Королевы, ЧСР
Плюс к этому письму в конверте лежал неплохо отпечатанный на плотной зернистой фотобумаге черно-белый портрет типично славянской девицы с угадываемым пышным бюстом деревенской колхозницы.
Что было делать, отвечать или нет? Стал советоваться с отцом. Он сказал:
– Еще год назад я бы тебе запретил. А теперь просто не советую. Мало ли что, связь с заграницей, ни к чему это, хотя и народная демократия. Пожалуй, лучше воздержаться…
Но я не воздержался, все-таки интересно было познакомиться с девчонкой из другой страны. Может быть, и съездить удалось бы, кто знает. Кроме того, хотелось выяснить, откуда она взяла мое имя. На одном только нашем курсе было около 150 человек, а в институте несколько тысяч. Каким образом этой чешке стало известно мое имя, и почему именно оно ей приглянулось?
Впрочем, как вариант, появилась одна догадка. В том году в молодежном журнале “Смена” я тиснул заметку под названием “На высоких отметках” – небольшой репортажик о нашей производственной практике на бетонных блоках Усть-Каменогорской ГЭС. Скорее всего, там эта Ева и увидела мою, как ей, наверно, подумалось, немецкую фамилию Зайдман, у них в Чехословакии она была привычной.
Мое ответное письмо было довольно коротким и осторожно вежливым, я в основном стандартными словами выражал благодарность за внимание к моей особе. Зато следующее письмо из Чехословакии отличилось большим многостраничьем и содержало довольно подробное описание режима дня учащихся Педагогической школы. Толщину конверта сильно увеличивала куча открыток с видами Градца Королевского и большим анфасным фото самой Евы. Ее простое крестьянское лицо не обещало за своим фасадом ни большого интеллекта, ни сексуальной привлекательности, и не вызывало у меня какого-либо особого интереса. Да еще то отцовское опасение. Поэтому наша переписка как-то спустилась на тормозах и не продолжилась.
А, может быть, зря. Могла бы моя дальнейшая судьба сложиться совсем иначе…
* * *
К студенческому времени относятся и некоторые забавные строки из моего тогдашнего дневника:
2/1-51 г. Новый год! Новая половина XX века! Встретили его в метро. Мы (Кот, Марик, Витька Нудельман) были на концерте в Консерватории, потом прошвырнулись по Броду и в полночь оказались в вагоне метро. Там никого не было, и мы побесились вволю – прыгали по сиденьям, бегали, барабанили в стены. Веселились во всю. Как маленькие.
14/V-51r. Сегодня мне 19 лет. Последние “надцать” в моей жизни. Больше никогда их не будет! Куда вы года спешите? Притормозите!
19/I-52 г. О Люде писать особенно нечего. Она липнет ко мне, все время звонит и вытягивает на свидания. Какое-то чувство (скорее, чувственность) она во мне, конечно, разбудила. Но не любовь. Плохо представляю себе, как мне себя с нею вести. Интересы у нас разные. Этот первый в моей жизни поцелуй был какой-то не настоящий, я ожидал чего-то другого, наверно, чего-то большего.
9/II-52 г. Нельзя быть равнодушным к людям и жизни! Я не согласен с Толстым, который любуется Стивой Облонским за его легкое отношение к серьезным вещам. Пусть рыдает человек, испытавший горе, и пусть хохочет тот, кто чувствует себя счастливым! Я говорю это не потому, что, может быть, еще не переживал по-настоящему большого горя и больших радостей, а потому, что, знаю, это должно быть так. Анна Каренина должна была броситься под поезд – и она большой человек с большими чувствами – о таких пишут романы. А Дарья Облонская, прощающая мужу измену, вызывает только умиление у Толстого в романе и недоумение, непонимание, а то и презрение у людей в жизни. Впрочем, все это ерунда, наверно, я пишу как-то не так. Почему-то не могу выразить толком словами то, что у меня внутри. Там, в душе, такой сумбур, такая неразбериха…
28/VIII-52r. Последние дни каникул я вовсю волочился за девчонками. С Верой получилось фальшиво и глупо. С Тамарой вообще ничего и не было. Просто, по-видимому, я не умею влюбляться так, как многие другие мои сверстники. Я другой человек в этом отношении.
5/1-53 г. Склепал коньки, но на каток не ходил еще – не с кем.
Много подобных вопросов задавал я себе, слушая назойливые славословия отметившего тогда свое 70-летие великого вождя, учителя товарища Сталина, и долбая к зачетам по диамату тягомотные догмы набившего оскомину научного коммунизма.
Вначале для меня были подозрительными, а со временем стали даже омерзительными все лозунги, включавшие в себя аморфное тошнотвортное название – народ. В свое время во имя, якобы, него клал своих врагов под нож гильотины “друг народа” фанатик Робеспьер, им клялись шедшие, будто бы, “в народ” русские бомбисты “народники”, взрывавшие кареты всех с ними несогласных, вплоть до царя-освободителя Александра II. И особенную неприязнь вызывали у меня проклятия “врагам народа”, которых ежовско-бериевские черные воронки по ночам увозили на московскую Лубянку и в ленинградские Кресты.
С годами мне становилось все яснее, что под понятием “народ” стоит толпа, которую, как не выстраивай в колонну или шеренгу, как не выравнивай строй, она так и останется именно толпой – безликой, тупой, страшной, беспощадной. Или соберется в этакую агрессивную злобную стаю. Я с детсадовского и школьного детства всегда боялся стихийного или даже сорганизованного скопления себе подобных. Взявши друг друга за руки, они сразу перестают быть личностями, и становятся одним безликим зловредным чудовищем, диким монстром.
Наверно, поэтому я и никогда не увлекался никакими групповыми видами спорта, не был футбольным или хоккейным фанатом, не болел ни за “Спартак”, ни за “Динамо” и с презрением смотрел в ящик, когда в нем появлялись пьяные рожи орущих и размахивающих руками завсегдатаев перегруженных ими стадионов.
А еще я стал все чаще задумываться о сволочном характере любой идеологии, будь она коммунистической, фашистско-нацистской, христианской, иудейской или мусульманской. Каждая из них – преступно навязываемая ложь. И неважно, впаривается ли она нам искренне верящими в нее фанатиками типа святого Павла (Саула), Лютера, Маркса, Троцкого, Ленина или используется для захвата и удержания власти такими живоглотами, как Карл Пятый, Торквемада, Гитлер, Сталин, Кастро. Никакого прощения не заслуживают эти мерзавцы, прикрывавшие свои страшные зверства овечьими шкурами подкрашенных в красное, черное или зеленое человеко-ненавистнических теорий.
Погибшая от голода при “военном коммунизме” девочка из тамбовской деревни, разрубленный до седла новобранец 1-ой Конной, подвешенный за ребро на дереве еврей-ювелир из Гомеля – разве это не преступления носителей двуличных лозунгов-обманок “Великой Октябрьской революции"? И как можно оправдать националистическими бендеровскими бреднями о “Самостийной Украине” зверскую расправу с моей ни в чем не повинной тетей Бетей, осенью 1942-го утопленной фашистскими полицаями-хохлами в публичном клозете на Ришельевской улице в Одессе?
И что от того, что эти вредоносные подлые теорийки были в будущем осуждены и, как старые портянки, выброшены на помойку истории? Ее взад уже не повернуть, погибших не воскресить, убийц не оправдать.
Товарищ Куев
Помимо производственных практик наша пятилетняя студенческая обыденщина разбавлялась еще и двумя летними военными сборами, состоявшимися после 2-го и 4-го курса. На пару-тройку недель мальчишеская часть нашего курса поступала в распоряжение инженерных войск СССР, занимавшихся учебным строительством фортификационных сооружений: дотов, дзотов, блиндажей, возведением мостов, ракетных и радарных установок.
Воинская часть, куда мы были посланы, дислоцировалась в районе городка со старинным названием Борисоглебские слободы (Ярославская область). В подтверждение своего православного прошлого неподалеку от нашего лагеря зыркали на нас пустые глазницы кирпичных башен монастыря XIV века, недавно еще бывшего одним из островков сталинского ГУЛАГа.
Если вторая военная практика была более менее “умственной" – мы работали на местности с картами, наводили переправу, строили мост, устанавливали понтоны, рыли окопы – то первая была почти вся тупой муштрой и тяжкой солдатчиной.
Нас прессовал тридцатилетний старшина с подозрительной фамилией Куев, который давил нас строевой подготовкой, сводившейся главным образом к утомительной до кровавого пота шагистике.
– Ша-агом арш, – громко кричал этот солдафон высоким визгливым голосом. – Правое плечо вперед. Раз, два, три. Левой, левой, левой. Эй, направляющий, пе-есню за-апевай. Раз, два, три, раз, два, три. Давай, давай. – И через некоторое время с издевкой добавлял: – Это вам не сопромат, здесь думать надо.
Когда мы уже начинали валиться с ног, он командовал “вольно!”, позволял скинуть с плеч тяжеленные винтовки-токаревки и душившие горло колючие шерстяные скатки (шинели). Затем по команде товарища Куева “свернуть курки” все становились в ряд, расстегивали ширинки и мощными молодецкими струями поливали придорожные кусты и осины. Многократно удобренные мочевиной, сульфатами и нитратами они нависали над дорогой крупными ветвистыми росляками.
Больше всего мне досаждали портянки, которые никак не хотели ровно накручиваться на мои тощие ноги-спички. Эти тряпки, сбиваясь в кирзовых сапогах неровными комками, натирали ступни, щиколотки, икры, и я постоянно страдал от воспалявшихся ссадин, натоптышей и кровяных ран. Поэтому я облегченно вздыхал, когда вместо мучительно трудных долгих переходов нам давали задание ползти по-пластунски – хотя при этом нам приходилось здорово вымазываться болотной грязью и суглинистой пылью, зато хоть ноги отдыхали.
И еще очень доставали противогазы – в них и с полной выкладкой на плечах нас заставляли делать пробежки, вверх и вниз по пересечёнке, иногда по целому километру. А этот гад Куев бежал с нами рядом и орал на тех, кто, поддерживая правой рукой бьющий по заду приклад винтовки, левой отводил от лица резину противогаза.
Жили мы повзводно в палатках-брезентухах на 6-10 железных коек. Были бы уши у лесной поляны, где стоял лагерь, она могла бы порадоваться цветистости и гибкости русского языка. Кроме громкого птичника юных голосов и отборного витиеватого мата, можно было также оценить важность такой приставки, как “о”, присутствие которой меняло смысл сказанного. Так, при команде “Очистить территорию” все должны были срочно убегать в лес. А вот приказ “чистить территорию” заставлял по наряду вне очереди часами махать по траве тяжелой метлой, убирая бумажки, окурки, жестянки и особенно нахальные шишки, которые, падая с деревьев, колючими кучами беспощадно заваливали землю.
Кормили нас простой солдатской пищей – щами, кашами, картошкой с мясом и чаем со сгущенкой. Эту еду дневальные на весь взвод варили в огромном железном чане, который, по случаю полного отсутствия каких-нибудь моющих средств, дежурным приходилось отдраивать до блеска песком и промывать в протекавшей рядом речке. Также простецки велась “борьба” с желудочными инфекциями при очистке ложек, вилок и прочих нестрелковых инструментов.
Однако, вовсе не этот метод помывки пищевого инвентаря вызывал рвотный рефлекс у некоторых брезгливых чистюль. Их щепетильность нередко подвергалась испытанию более изощренным способом. Приведу пример, связанный с почти полным оголоданием моего приятеля Толи Мещанского, которого по возвращении домой мама долго откармливала. А все из-за его избыточной впечатлительности, не позволявшей его прикасаться к еде, сваренной в том самом железном чане. В чем было дело?
А в том, что с самых первых дней нашего пребывания в лагере его воспаленное воображение стало подвергаться тяжелым испытаниям. Началось с того вечера, когда один из завзятых хохмачей нашего курса Борька Биргауз, доверительно склонившись к толиному уху, с возмущением рассказал, что сам видел, как после наступления темноты дежурный из соседнего взвода пописал прямо в только что сваренную овсянку. От этой информации у бедного Толи горло заблокировалось рвотным спазмом и никакую кашу он есть уже не смог. Естественно, этот случай послужил спусковым крючком для бомбардировки мозгов впечатливого недотепы многодневной картечью неприхотливого солдатского юмора.
Кроме рытья траншей и уборки территории, в работу, развивающую наши неспортивные бицепсы-трицепсы, входило перетаскивание бревен, заготовка сушняка, валежника, пилка и колка дров на зиму. Наиболее трудным было пополнение запасов водонапорной башни, для чего нас использовали в качестве водокачки. Мы становились шеренгой и передавали от одного к другому тяжелые ведра с зачерпанной в реке водой. Особенно доставалось крайним, которым приходилось по шаткой лестнице поднимать ведра вверх. Отбывая как-то такую водоносную повинность, я написал лукавый стишок в ротную стенгазету:
Дежурный! Помни у роты рты
В жару пересохли от жажды.
За каждую каплю холодной воды
По гроб тебе должен каждый.
* * *
Плотно легло на полку памяти и одно неординарное событие, связанное с приоткрывшейся было передо мной крохотной щелки в железном занавесе, защищавшем нас от тлетворного влияния прогнившего Запада.
Были у нас в институте на Разгуляе почтовые ящики, куда поступали письма для студентов, приехавших учиться в Москву из других городов. Но вот в ноябре 1953 года, к моему крайнему удивлению, я тоже получил письмо, причем не из какой-то там южнорусской Жоповки или западносибирского Мочеписка, а из самой, что ни есть, Заграницы. А в то время (хотя Усатый вот уже как полгода отдал концы) для такого, как я, ничем не выдающегося простолюдина, да еще еврея, было настоящим чудом. Что же за письмо меня достало? Да вот оно:
Здравствуйте, дорогой товарищ Евгений!
Может быть, Вас удивит, кто Вам пишет. Мы, девушки из далекой Чехословакии интересуемся жизнью трудящихся и учащихся СССР и хотели бы переписываться с советскими друзьями.
Я учусь в 4-м классе педагогической школы в Градце Королевы. После сдания экземов я хочу поступить на высокую школу русского языка. Мне 18 лет, я уже 2 года членка Союза сотрудничества с армией и 1-ый год я занимаюсь планеризмом.
Мои родители – члены Единого сельского кооператива III-го типа в нашей деревне, это 11 километров от города. Они работают за то, чтобы наша деревня стала социалистической.
Я тщусь, что Вы мне скоро напишете. Желаю Вам много успехов в Вашей школьной и комсомольской работе.
Ева Менцакова.
Педагогическая школа, площадь Ленина,
Градец Королевы, ЧСР
Плюс к этому письму в конверте лежал неплохо отпечатанный на плотной зернистой фотобумаге черно-белый портрет типично славянской девицы с угадываемым пышным бюстом деревенской колхозницы.
Что было делать, отвечать или нет? Стал советоваться с отцом. Он сказал:
– Еще год назад я бы тебе запретил. А теперь просто не советую. Мало ли что, связь с заграницей, ни к чему это, хотя и народная демократия. Пожалуй, лучше воздержаться…
Но я не воздержался, все-таки интересно было познакомиться с девчонкой из другой страны. Может быть, и съездить удалось бы, кто знает. Кроме того, хотелось выяснить, откуда она взяла мое имя. На одном только нашем курсе было около 150 человек, а в институте несколько тысяч. Каким образом этой чешке стало известно мое имя, и почему именно оно ей приглянулось?
Впрочем, как вариант, появилась одна догадка. В том году в молодежном журнале “Смена” я тиснул заметку под названием “На высоких отметках” – небольшой репортажик о нашей производственной практике на бетонных блоках Усть-Каменогорской ГЭС. Скорее всего, там эта Ева и увидела мою, как ей, наверно, подумалось, немецкую фамилию Зайдман, у них в Чехословакии она была привычной.
Мое ответное письмо было довольно коротким и осторожно вежливым, я в основном стандартными словами выражал благодарность за внимание к моей особе. Зато следующее письмо из Чехословакии отличилось большим многостраничьем и содержало довольно подробное описание режима дня учащихся Педагогической школы. Толщину конверта сильно увеличивала куча открыток с видами Градца Королевского и большим анфасным фото самой Евы. Ее простое крестьянское лицо не обещало за своим фасадом ни большого интеллекта, ни сексуальной привлекательности, и не вызывало у меня какого-либо особого интереса. Да еще то отцовское опасение. Поэтому наша переписка как-то спустилась на тормозах и не продолжилась.
А, может быть, зря. Могла бы моя дальнейшая судьба сложиться совсем иначе…
* * *
К студенческому времени относятся и некоторые забавные строки из моего тогдашнего дневника:
2/1-51 г. Новый год! Новая половина XX века! Встретили его в метро. Мы (Кот, Марик, Витька Нудельман) были на концерте в Консерватории, потом прошвырнулись по Броду и в полночь оказались в вагоне метро. Там никого не было, и мы побесились вволю – прыгали по сиденьям, бегали, барабанили в стены. Веселились во всю. Как маленькие.
14/V-51r. Сегодня мне 19 лет. Последние “надцать” в моей жизни. Больше никогда их не будет! Куда вы года спешите? Притормозите!
19/I-52 г. О Люде писать особенно нечего. Она липнет ко мне, все время звонит и вытягивает на свидания. Какое-то чувство (скорее, чувственность) она во мне, конечно, разбудила. Но не любовь. Плохо представляю себе, как мне себя с нею вести. Интересы у нас разные. Этот первый в моей жизни поцелуй был какой-то не настоящий, я ожидал чего-то другого, наверно, чего-то большего.
9/II-52 г. Нельзя быть равнодушным к людям и жизни! Я не согласен с Толстым, который любуется Стивой Облонским за его легкое отношение к серьезным вещам. Пусть рыдает человек, испытавший горе, и пусть хохочет тот, кто чувствует себя счастливым! Я говорю это не потому, что, может быть, еще не переживал по-настоящему большого горя и больших радостей, а потому, что, знаю, это должно быть так. Анна Каренина должна была броситься под поезд – и она большой человек с большими чувствами – о таких пишут романы. А Дарья Облонская, прощающая мужу измену, вызывает только умиление у Толстого в романе и недоумение, непонимание, а то и презрение у людей в жизни. Впрочем, все это ерунда, наверно, я пишу как-то не так. Почему-то не могу выразить толком словами то, что у меня внутри. Там, в душе, такой сумбур, такая неразбериха…
28/VIII-52r. Последние дни каникул я вовсю волочился за девчонками. С Верой получилось фальшиво и глупо. С Тамарой вообще ничего и не было. Просто, по-видимому, я не умею влюбляться так, как многие другие мои сверстники. Я другой человек в этом отношении.
5/1-53 г. Склепал коньки, но на каток не ходил еще – не с кем.