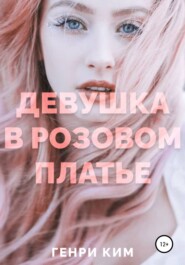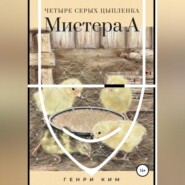По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бесконечно далёкой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бесконечно далёкой
Генри Ким
В годовщину смерти Михаила Горшенёва, фронтмена группы "Король и шут", главный герой приходит на Богословское кладбище, чтобы ещё раз попрощаться с его могилой, и находит среди цветов необычное письмо, самое романтичное, что он читал за свою жизнь. Письмо от имени мужчины, ищущего женщину, в которую он влюблён, оставленное в надежде на то, что она придёт проститься с кумиром. Смахивая слёзы, главный герой задумывается о своей жизни: где его любовь? испытывал ли он когда-то что-то подобное? кем является для него жена?
Про Достоевского ходит миф, что он никогда не спал со своей женой, разделяя любовь духовную и плотскую. На самом деле, он её не любил. А как отнестись к любовникам, познакомившимся в сети, но никогда не видевшим друг друга? Четыре года они испытывали свои чувства, без касания тел. Как такое возможно? Какой будет их встреча? И чему можно у них поучиться? Ответ на страницах рассказа.
Приятного чтения и… не умрите от нежности.
Генри Ким
Бесконечно далёкой
«Мы все понемногу умираем ради смерти побольше»
«Человек обретает ценность, когда готовится вот-вот пропасть навсегда»
«Смерть – лучший показатель человечности»
«Ему следовало меньше пить»
Почему подобных цитат на пишут на могилах?
Разгуливая по Богословскому кладбищу в половине шестого вечера вторника, я размышлял о том, почему на надгробиях не пишут ничего важного. На них практически никогда не бывает напутствия, не бывает умных мыслей или хотя бы фотографии, только голые числа. Что должны усвоить дети или дети детей, приходящие к почившим родственникам? Это же кладбище. Здесь любая фраза обретает некий потаённый смысл и глубину.
«Самое страшное преступление – упущенная возможность»
«Ничто не бодрит сильнее, чем внезапная смерть близкого человека»
У меня никогда не было традиционного представления о смерти, но не нужно меня считать из-за этого изгоем. До двадцати лет я никогда не ходил на кладбища. Родственники умирали, и когда я был маленьким, и когда был подростком, но я никогда не хотел идти ни на похороны, ни на святки. Наблюдая за плачущими членами семьи, за их мрачными горькими лицами, я предпочитал оставаться дома и клевать со стола «поминочные» конфеты. В двадцать лет я устроился на кладбище сторожем на подработку, и впервые взглянул на смерть, как на быт.
– Это место не для развлечений, – ответил я сам себе на вопрос о цитатах. – Люди приходят сюда, чтобы работать.
Пока я убирал ветки с дорожек или чистил их от снега, я отмечал некоторые вещи. Например, я заметил, что людям всегда требуется какой-то повод, чтобы посетить это место. Похороны, дни рождения, праздники, вроде дня матери, отца или церковных. Люди по-хозяйски входят в оградки, с деловитым ответственным видом убирают оттуда налетевший мусор, листья, увядшие цветы, а после работы ненадолго встают или присаживаются к надгробию, может, прощаются, может, говорят о чём-нибудь, затем крестятся и уходят. Других дел на кладбище у таких людей не было. Они быстро приходили, быстро уходили, словно выполняли обязанности. Они старались экономить время, чтобы успеть побольше до своей смерти.
Также я отмечал и другой вид посетителей. Молодёжь, подростки, как правило, приходили, чтобы побродить среди могил, прогуляться по каменным дорожкам в умиротворённой, но в злачной тишине. Выпить пива. Таких людей даже нельзя назвать ненормальным.
Когда я работал сторожем на кладбище, мне было наказано выгонять таких личностей вон, но я часто пренебрегал этим указом, прибегая к нему, только когда ребята сильно шумели.
– Ребят, послушайте, я, как сторож, не должен допускать на кладбище собраний, и тем более, распития алкоголя. Но я не согласен с этими правилами, и не буду звонить в полицию, если вы будете прилично себя вести.
– Блин, ну ты вообще мужик, пацан, – обычно благодарил какой-нибудь бедолага в косухе и хлопал меня по плечу.
– Давайте, ребят, – отходил я, – но если на вас кто-то пожалуется, мне попадёт, и я перестану вас сюда пускать.
– От души, мужик, – и они поднимали за меня бутылки.
Они поднимали бутылки за Виктора Цоя. Все они приходили на его могилу. Громко или тихо пели его песни под гитару и выпивали. Они получали от своих посиделок удовольствие, и я не вправе был их осуждать. В студенческие годы я подрабатывал сторожем на Богословском кладбище и сегодня, спустя несколько лет, пришёл сюда вновь уже в роли посетителя.
Сегодня, вечером вторника, я встретил на кладбище всего пару человек. Как и раньше, они ухаживали за могилками, унося с собой пакеты с прошлогодней травой и налетевшим мусором. Одни и те же лица, пронесённые сквозь годы, когда-то точно также безмолвно застынут на бетонных плитах рядом с родственниками, и уже их дети и дети их детей будут приходить, чтобы навести порядок за оградкой. Они молча выполнят свою работу, перекрестятся и уйдут. Нашим людям сложно показывать свою любовь словами.
После работы я отправился почему-то сюда, без особого повода, без цели, без смысла. Возможно, мне было интересно, как тут всё изменилось, возможно, я не очень-то стремился приходить домой.
Почему я не хотел домой? – этот вопрос первым повис в моей голове.
Я прошёлся по одной дорожке до конца, затем по другой, обогнул памятник безымянным солдатам в центре, без всякого интереса взглянул на свою старую сторожку, и подошёл к памятнику Цоя. Большая мраморная плита, скамейки с костром между ними напротив, цветы, фотографии, и просьба родственников не вставать на могилу ногами. Я взглянул на горизонтальную плиту – она была вся истоптана – и включил на телефоне песни группы Кино. Постоял, погрустил, присел ненадолго на скамейку.
– Для скольких людей он был кумиром, сколько музыкантов выросло из его песен? – подумал я, прежде чем встать и пойти дальше. Я не особо любил Цоя. Я знал его главные песни, любил их, но никогда не фанател от него. Мне нравилась немного другая музыка.
Немного другая музыка появилась в моих ушах. В наушниках, очень медленно, я подходил к другому могиле известного музыканта, находящейся в нескольких десятках метров отсюда, и под самые грустные его песни, уже начинал плакать. Когда играла «Воспоминания о былой любви», я чувствовал блеск в глазах. Когда заиграл «Медведь», я ощутил, как горячие слёзы потекли по щекам. Когда я дошёл до могилы, присел на лавочку напротив неё, и заиграла «На краю», я разревелся так, что пришлось лезть в карман за платком. Я очень сильно любил «Король и шут». Закрыв лицо руками, я уронил её в колени, чтобы не смотреть на торчащие колючки волос Михаила Горшенёва.
Я очень любил «Король и шут». Я слушал эту группу более десяти лет, и смерть Миши сильно отразилась когда-то на мне. Именно в период моей работы на этом кладбище, именно в мою смену, его привозили сюда хоронить. Как сторож на Богословском кладбище, я должен был следить за огромным количеством людей и машин, скопившихся в тот день на похоронах. Как фанат его творчества, я должен был принести и положить хотя бы пару гвоздик к нему на могилу сказать что-то в напутствие. Как вежливый добропорядочный человек, я должен был съесть всё, что мне принесли его родственники с поминального стола. Но мне не лезли эти конфеты в горло, а ноги не отрывались от пола, и я просидел в своей сторожке все сутки, глядя в стену. После смены я отдал сладости второму сторожу, а сам пошёл на могилу только через несколько дней. Тогда я не мог смотреть на лица людей, которых были на него похожи.
Сейчас я тоже уронил голову на колени и долго приходил в себя. На мраморе также стояли фотографии, какое-то стихотворение в рамке, цветы, грязный мокрый медвежонок. Успокоившись, я вытер слёзы, высморкался и выключил музыку. Взглянул в его лицо на фотографии в полный рост, затем снова опустил голову и стал рассматривать цветы. Среди цветов лежал большой листок, повёрнутый надписью «Бесконечно далёкой» ко мне. Я оглянулся. Никого поблизости не было. Вряд ли листок предназначался Мише. Любопытство завладело мной, я взял листок и развернул. Внутри было следующее.
Здравствуй, бесконечно далёкая девушка из моих грёз! Если ты читаешь это, значит, что мы оба существуем. И это значит, что я тебя нашёл. Да, это тот самый парень из Интернета, твой друг по переписке, которого ты никогда не видела. Ты должна узнать меня по почерку.
Если это читаешь действительно ты, то я по-настоящему хорошо тебя знаю. Только ты могла придти в этот день в это место – ведь в этот день я познакомил тебя с КИШ. Я верю, что эта группа до сих пор любима обоими нами. После нашей разлуки, спросить об этом, мне не представлялось возможным, потому я пытаюсь связаться с тобой таким образом – через могилу любимого поэта.
Это до бессердечия забавно. Ты приедешь в Санкт-Петербург, придёшь на Богословское кладбище, чтобы выплакаться у его могилы, и здесь тебе под нос сунут бумажку с рекламой: «Позвоните по этому номеру, мы будем рады Вас услышать». Вряд ли кто-то из нас думал об этом, когда мы прекращали общаться.
Я знаю, я слишком на тебя давил, слишком усердно просил, чтобы ты приехала ко мне, чтобы ты была со мной, ведь я, я, насквозь пронизанный тобой человек, ожидающий четыре года твоего переезда, рвущийся навстречу, но недостающий цели, я имел все права на тебя, моя маленькая девочка, я должен был вводить тебя в этот мир запахов и вкусов, я должен был создавать тебя, наполнять тебя, как прекрасный фужер прекрасное вино, но тогда я, похоже, перестарался, и наговорил лишнего, что тебя и оттолкнуло. Не вини меня. Я до сих пор от тебя без ума.
Потеряв связь с тобой даже в Сети, я потерял связь с радостью этого мира. Гордость связала нам руки, ботинками растоптав сим-карты. Уж прости, если ты не согласна, но я вижу всё именно так. Уже второй раз, второй год я приношу письмо на эту могилу, в надежде, что застану тебя здесь. Ты ведь собиралась когда-то навестить Северную столицу. Я приношу его с вечера предыдущего дня, спустя сутки забираю. Работа не даёт мне ждать тебя здесь целый день, да я уже и не тот отчаявшийся псих, что был раньше. И, я должен извиниться за своё поведение в прошлом.
Раньше наши отношения напоминали собаку и Павлова. Я привык получать сахар после звонка, и слыша звук приходящего сообщения трясу хвостом, но не получал лакомства, только звонок. Только письмо. Я приносил палку, подбегал всё ближе к тебе, даже видел сахар на руке, но взять без позволения не мог. Не умел, не дотягивался. Оттого и злился. Как самая умная собака в мире, я понимал, что у тебя могут быть неотложные дела или сломана рука, которой ты должна была меня кормить, но я всё же был собакой: и от инстинктов мне некуда было деться. Для меня твой день – это возможность дать мне сахар: взять билет и приехать, 365 кусков в год. И, по большому счёту, мне было плевать, почему ты не даёшь мне сладкого, оно мне просто нужно. За это своё непонимание я и прошу прощения.
Прошу прощения за свои слова. Я обвинял тебя в трусости, но по-настоящему боялся я сам. Боялся, что спустя четыре года ожидания, я так и не смогу дотронуться до тебя рукой. Я так хотел тобой обладать, что забыл о том, что такое жизнь. Жизнь, она как танец без касания, руками ты никогда не касаешься того, что хочешь. Всё происходит после последних па, до которых я тебя не довёл. Я – мужчина, и в танце должен вести, а не тащить за собой. Это не сельская дискотека с сеновалом.
Сейчас я стал совсем другим. Я устал ждать жизни и пытаюсь жить сам, без тебя, прелестнейшая мира сего. Работа, коллеги-приятели, дом. Скорее, как дань почтения тому, что было, я раз в год приношу сюда это письмо. Дань уважения. Надежды во мне нет уже давно.
Я до сих пор помню письма, которые писал тебе, почти дословно.
… Наверное, я люблю тебя. Наверное, ты любишь меня. Скорей всего, мы оба говорим эти слова без слёз, а это повод засомневаться. Я не знаю, как сочетать немецкий и английский, не знаю ничего о живописи или как там называются твои рисунки. Ты ничего не знаешь о литературе, стихах. Музыка – единственное, что нас связывает, и будь мы музыкантами, я бы уже давно разорвал на тебе футболку…
Это было красиво. Мне нравилось мечтать, и быть для кого-то недосягаемой мечтою. Но из любой мечты вырастаешь, и она растворяется в воздухе, будто её и не было, а в тебе остаётся пустота от этой мечты, и тоска, давящая на рёбра. Когда-то я мнил себя богом, хотел научиться играть на барабанах, освоить три языка, не спать ночами, а танцевать с красивой девушкой в парке под Луной под самые нежные в мире песни. Я не одну тысячу раз представлял, как ночью мы перелезем через забор Таврического сада, и растворимся в танце у пруда под GeorgeMichael. Но с еле бьющимся сердцем в руке я остаюсь на скамье у воды, кладу его обратно в рюкзак и ухожу в повседневность.
Я пишу это не для того, чтобы вернуть тебя, любимая, не для того, чтобы разжалобить. Когда-то ради тебя я забыл сотни хороших людей, прошёл мимо тысячи блестящих глаз, зачерпывая сапогами тину сомнений, приблизился к тебе вплотную, и абсолютно не представлял, что ты должна была сделать, чтобы я ушёл. Тогда ты просто не шагнула навстречу, и я наблюдал, как все мои козыри высыпались от рукавов, как крепкий высокий дом превратился в рассыпанную колоду. Больше я не повторю такой ошибки.
Если ты вдруг окажешься в этом городе, вдруг заметишь и прочтёшь это письмо, позвони мне. Я оставлю номер ниже. Я просто хочу увидеть тебя вживую. Не то, как ты изменилась, а как ты выглядела всегда. Как старые друзья мы можем просто выпить кофе в каком-нибудь кафе, и поболтать о чём-нибудь ненавязчивом. Надеюсь, это когда-то случится, мой лучший друг.
Номер телефона, место, дата и время встречи.
Пронизанный чувственностью смерти, с пронизанными нежностью листами, я сидел на скамейке у могилы Михаила Горшенёва, и слёзы больше не текли из моих глаз. Потрясённый прочтённым, я не оглядывался, не осматривался по сторонам, боясь быть уличённым. Деревянными, как мрамор, руками, я сложил листы по изогнутым линиям, и положил обратно между цветов. Поправил, чтобы была видна надпись «Бесконечно далёкой», и взглянул ещё раз на рисунок Миши на мраморе. В гладком, отполированном камне я увидел своё увядшее, словно цветок, лицо. Отражение было таким смутным, я щёки настолько выбрито-впалыми, что я не мог различить ничего, кроме этого лица.
Встав со скамьи, я побрёл прочь от этого места. Оно заставило меня слишком сильно расчувствоваться. Любовь, смерть. Я не знал, сталкивался ли с этими чувствами в последние годы. Письмо казалось очень далёким от моей жизни, но крепко засело в голове. Выходя с кладбища, я увидел идущую навстречу девушку, молодую и красивую, и всю дорогу до дома думал: а вдруг это была она, бесконечно далёкая? И если это была она, то найденное письмо – это знак свыше? И зачем и почему именно я обнаружил его?
Почему я?
Этот вопрос стал вторым, неразрешимой загадкой повисшим в моей голове.
Генри Ким
В годовщину смерти Михаила Горшенёва, фронтмена группы "Король и шут", главный герой приходит на Богословское кладбище, чтобы ещё раз попрощаться с его могилой, и находит среди цветов необычное письмо, самое романтичное, что он читал за свою жизнь. Письмо от имени мужчины, ищущего женщину, в которую он влюблён, оставленное в надежде на то, что она придёт проститься с кумиром. Смахивая слёзы, главный герой задумывается о своей жизни: где его любовь? испытывал ли он когда-то что-то подобное? кем является для него жена?
Про Достоевского ходит миф, что он никогда не спал со своей женой, разделяя любовь духовную и плотскую. На самом деле, он её не любил. А как отнестись к любовникам, познакомившимся в сети, но никогда не видевшим друг друга? Четыре года они испытывали свои чувства, без касания тел. Как такое возможно? Какой будет их встреча? И чему можно у них поучиться? Ответ на страницах рассказа.
Приятного чтения и… не умрите от нежности.
Генри Ким
Бесконечно далёкой
«Мы все понемногу умираем ради смерти побольше»
«Человек обретает ценность, когда готовится вот-вот пропасть навсегда»
«Смерть – лучший показатель человечности»
«Ему следовало меньше пить»
Почему подобных цитат на пишут на могилах?
Разгуливая по Богословскому кладбищу в половине шестого вечера вторника, я размышлял о том, почему на надгробиях не пишут ничего важного. На них практически никогда не бывает напутствия, не бывает умных мыслей или хотя бы фотографии, только голые числа. Что должны усвоить дети или дети детей, приходящие к почившим родственникам? Это же кладбище. Здесь любая фраза обретает некий потаённый смысл и глубину.
«Самое страшное преступление – упущенная возможность»
«Ничто не бодрит сильнее, чем внезапная смерть близкого человека»
У меня никогда не было традиционного представления о смерти, но не нужно меня считать из-за этого изгоем. До двадцати лет я никогда не ходил на кладбища. Родственники умирали, и когда я был маленьким, и когда был подростком, но я никогда не хотел идти ни на похороны, ни на святки. Наблюдая за плачущими членами семьи, за их мрачными горькими лицами, я предпочитал оставаться дома и клевать со стола «поминочные» конфеты. В двадцать лет я устроился на кладбище сторожем на подработку, и впервые взглянул на смерть, как на быт.
– Это место не для развлечений, – ответил я сам себе на вопрос о цитатах. – Люди приходят сюда, чтобы работать.
Пока я убирал ветки с дорожек или чистил их от снега, я отмечал некоторые вещи. Например, я заметил, что людям всегда требуется какой-то повод, чтобы посетить это место. Похороны, дни рождения, праздники, вроде дня матери, отца или церковных. Люди по-хозяйски входят в оградки, с деловитым ответственным видом убирают оттуда налетевший мусор, листья, увядшие цветы, а после работы ненадолго встают или присаживаются к надгробию, может, прощаются, может, говорят о чём-нибудь, затем крестятся и уходят. Других дел на кладбище у таких людей не было. Они быстро приходили, быстро уходили, словно выполняли обязанности. Они старались экономить время, чтобы успеть побольше до своей смерти.
Также я отмечал и другой вид посетителей. Молодёжь, подростки, как правило, приходили, чтобы побродить среди могил, прогуляться по каменным дорожкам в умиротворённой, но в злачной тишине. Выпить пива. Таких людей даже нельзя назвать ненормальным.
Когда я работал сторожем на кладбище, мне было наказано выгонять таких личностей вон, но я часто пренебрегал этим указом, прибегая к нему, только когда ребята сильно шумели.
– Ребят, послушайте, я, как сторож, не должен допускать на кладбище собраний, и тем более, распития алкоголя. Но я не согласен с этими правилами, и не буду звонить в полицию, если вы будете прилично себя вести.
– Блин, ну ты вообще мужик, пацан, – обычно благодарил какой-нибудь бедолага в косухе и хлопал меня по плечу.
– Давайте, ребят, – отходил я, – но если на вас кто-то пожалуется, мне попадёт, и я перестану вас сюда пускать.
– От души, мужик, – и они поднимали за меня бутылки.
Они поднимали бутылки за Виктора Цоя. Все они приходили на его могилу. Громко или тихо пели его песни под гитару и выпивали. Они получали от своих посиделок удовольствие, и я не вправе был их осуждать. В студенческие годы я подрабатывал сторожем на Богословском кладбище и сегодня, спустя несколько лет, пришёл сюда вновь уже в роли посетителя.
Сегодня, вечером вторника, я встретил на кладбище всего пару человек. Как и раньше, они ухаживали за могилками, унося с собой пакеты с прошлогодней травой и налетевшим мусором. Одни и те же лица, пронесённые сквозь годы, когда-то точно также безмолвно застынут на бетонных плитах рядом с родственниками, и уже их дети и дети их детей будут приходить, чтобы навести порядок за оградкой. Они молча выполнят свою работу, перекрестятся и уйдут. Нашим людям сложно показывать свою любовь словами.
После работы я отправился почему-то сюда, без особого повода, без цели, без смысла. Возможно, мне было интересно, как тут всё изменилось, возможно, я не очень-то стремился приходить домой.
Почему я не хотел домой? – этот вопрос первым повис в моей голове.
Я прошёлся по одной дорожке до конца, затем по другой, обогнул памятник безымянным солдатам в центре, без всякого интереса взглянул на свою старую сторожку, и подошёл к памятнику Цоя. Большая мраморная плита, скамейки с костром между ними напротив, цветы, фотографии, и просьба родственников не вставать на могилу ногами. Я взглянул на горизонтальную плиту – она была вся истоптана – и включил на телефоне песни группы Кино. Постоял, погрустил, присел ненадолго на скамейку.
– Для скольких людей он был кумиром, сколько музыкантов выросло из его песен? – подумал я, прежде чем встать и пойти дальше. Я не особо любил Цоя. Я знал его главные песни, любил их, но никогда не фанател от него. Мне нравилась немного другая музыка.
Немного другая музыка появилась в моих ушах. В наушниках, очень медленно, я подходил к другому могиле известного музыканта, находящейся в нескольких десятках метров отсюда, и под самые грустные его песни, уже начинал плакать. Когда играла «Воспоминания о былой любви», я чувствовал блеск в глазах. Когда заиграл «Медведь», я ощутил, как горячие слёзы потекли по щекам. Когда я дошёл до могилы, присел на лавочку напротив неё, и заиграла «На краю», я разревелся так, что пришлось лезть в карман за платком. Я очень сильно любил «Король и шут». Закрыв лицо руками, я уронил её в колени, чтобы не смотреть на торчащие колючки волос Михаила Горшенёва.
Я очень любил «Король и шут». Я слушал эту группу более десяти лет, и смерть Миши сильно отразилась когда-то на мне. Именно в период моей работы на этом кладбище, именно в мою смену, его привозили сюда хоронить. Как сторож на Богословском кладбище, я должен был следить за огромным количеством людей и машин, скопившихся в тот день на похоронах. Как фанат его творчества, я должен был принести и положить хотя бы пару гвоздик к нему на могилу сказать что-то в напутствие. Как вежливый добропорядочный человек, я должен был съесть всё, что мне принесли его родственники с поминального стола. Но мне не лезли эти конфеты в горло, а ноги не отрывались от пола, и я просидел в своей сторожке все сутки, глядя в стену. После смены я отдал сладости второму сторожу, а сам пошёл на могилу только через несколько дней. Тогда я не мог смотреть на лица людей, которых были на него похожи.
Сейчас я тоже уронил голову на колени и долго приходил в себя. На мраморе также стояли фотографии, какое-то стихотворение в рамке, цветы, грязный мокрый медвежонок. Успокоившись, я вытер слёзы, высморкался и выключил музыку. Взглянул в его лицо на фотографии в полный рост, затем снова опустил голову и стал рассматривать цветы. Среди цветов лежал большой листок, повёрнутый надписью «Бесконечно далёкой» ко мне. Я оглянулся. Никого поблизости не было. Вряд ли листок предназначался Мише. Любопытство завладело мной, я взял листок и развернул. Внутри было следующее.
Здравствуй, бесконечно далёкая девушка из моих грёз! Если ты читаешь это, значит, что мы оба существуем. И это значит, что я тебя нашёл. Да, это тот самый парень из Интернета, твой друг по переписке, которого ты никогда не видела. Ты должна узнать меня по почерку.
Если это читаешь действительно ты, то я по-настоящему хорошо тебя знаю. Только ты могла придти в этот день в это место – ведь в этот день я познакомил тебя с КИШ. Я верю, что эта группа до сих пор любима обоими нами. После нашей разлуки, спросить об этом, мне не представлялось возможным, потому я пытаюсь связаться с тобой таким образом – через могилу любимого поэта.
Это до бессердечия забавно. Ты приедешь в Санкт-Петербург, придёшь на Богословское кладбище, чтобы выплакаться у его могилы, и здесь тебе под нос сунут бумажку с рекламой: «Позвоните по этому номеру, мы будем рады Вас услышать». Вряд ли кто-то из нас думал об этом, когда мы прекращали общаться.
Я знаю, я слишком на тебя давил, слишком усердно просил, чтобы ты приехала ко мне, чтобы ты была со мной, ведь я, я, насквозь пронизанный тобой человек, ожидающий четыре года твоего переезда, рвущийся навстречу, но недостающий цели, я имел все права на тебя, моя маленькая девочка, я должен был вводить тебя в этот мир запахов и вкусов, я должен был создавать тебя, наполнять тебя, как прекрасный фужер прекрасное вино, но тогда я, похоже, перестарался, и наговорил лишнего, что тебя и оттолкнуло. Не вини меня. Я до сих пор от тебя без ума.
Потеряв связь с тобой даже в Сети, я потерял связь с радостью этого мира. Гордость связала нам руки, ботинками растоптав сим-карты. Уж прости, если ты не согласна, но я вижу всё именно так. Уже второй раз, второй год я приношу письмо на эту могилу, в надежде, что застану тебя здесь. Ты ведь собиралась когда-то навестить Северную столицу. Я приношу его с вечера предыдущего дня, спустя сутки забираю. Работа не даёт мне ждать тебя здесь целый день, да я уже и не тот отчаявшийся псих, что был раньше. И, я должен извиниться за своё поведение в прошлом.
Раньше наши отношения напоминали собаку и Павлова. Я привык получать сахар после звонка, и слыша звук приходящего сообщения трясу хвостом, но не получал лакомства, только звонок. Только письмо. Я приносил палку, подбегал всё ближе к тебе, даже видел сахар на руке, но взять без позволения не мог. Не умел, не дотягивался. Оттого и злился. Как самая умная собака в мире, я понимал, что у тебя могут быть неотложные дела или сломана рука, которой ты должна была меня кормить, но я всё же был собакой: и от инстинктов мне некуда было деться. Для меня твой день – это возможность дать мне сахар: взять билет и приехать, 365 кусков в год. И, по большому счёту, мне было плевать, почему ты не даёшь мне сладкого, оно мне просто нужно. За это своё непонимание я и прошу прощения.
Прошу прощения за свои слова. Я обвинял тебя в трусости, но по-настоящему боялся я сам. Боялся, что спустя четыре года ожидания, я так и не смогу дотронуться до тебя рукой. Я так хотел тобой обладать, что забыл о том, что такое жизнь. Жизнь, она как танец без касания, руками ты никогда не касаешься того, что хочешь. Всё происходит после последних па, до которых я тебя не довёл. Я – мужчина, и в танце должен вести, а не тащить за собой. Это не сельская дискотека с сеновалом.
Сейчас я стал совсем другим. Я устал ждать жизни и пытаюсь жить сам, без тебя, прелестнейшая мира сего. Работа, коллеги-приятели, дом. Скорее, как дань почтения тому, что было, я раз в год приношу сюда это письмо. Дань уважения. Надежды во мне нет уже давно.
Я до сих пор помню письма, которые писал тебе, почти дословно.
… Наверное, я люблю тебя. Наверное, ты любишь меня. Скорей всего, мы оба говорим эти слова без слёз, а это повод засомневаться. Я не знаю, как сочетать немецкий и английский, не знаю ничего о живописи или как там называются твои рисунки. Ты ничего не знаешь о литературе, стихах. Музыка – единственное, что нас связывает, и будь мы музыкантами, я бы уже давно разорвал на тебе футболку…
Это было красиво. Мне нравилось мечтать, и быть для кого-то недосягаемой мечтою. Но из любой мечты вырастаешь, и она растворяется в воздухе, будто её и не было, а в тебе остаётся пустота от этой мечты, и тоска, давящая на рёбра. Когда-то я мнил себя богом, хотел научиться играть на барабанах, освоить три языка, не спать ночами, а танцевать с красивой девушкой в парке под Луной под самые нежные в мире песни. Я не одну тысячу раз представлял, как ночью мы перелезем через забор Таврического сада, и растворимся в танце у пруда под GeorgeMichael. Но с еле бьющимся сердцем в руке я остаюсь на скамье у воды, кладу его обратно в рюкзак и ухожу в повседневность.
Я пишу это не для того, чтобы вернуть тебя, любимая, не для того, чтобы разжалобить. Когда-то ради тебя я забыл сотни хороших людей, прошёл мимо тысячи блестящих глаз, зачерпывая сапогами тину сомнений, приблизился к тебе вплотную, и абсолютно не представлял, что ты должна была сделать, чтобы я ушёл. Тогда ты просто не шагнула навстречу, и я наблюдал, как все мои козыри высыпались от рукавов, как крепкий высокий дом превратился в рассыпанную колоду. Больше я не повторю такой ошибки.
Если ты вдруг окажешься в этом городе, вдруг заметишь и прочтёшь это письмо, позвони мне. Я оставлю номер ниже. Я просто хочу увидеть тебя вживую. Не то, как ты изменилась, а как ты выглядела всегда. Как старые друзья мы можем просто выпить кофе в каком-нибудь кафе, и поболтать о чём-нибудь ненавязчивом. Надеюсь, это когда-то случится, мой лучший друг.
Номер телефона, место, дата и время встречи.
Пронизанный чувственностью смерти, с пронизанными нежностью листами, я сидел на скамейке у могилы Михаила Горшенёва, и слёзы больше не текли из моих глаз. Потрясённый прочтённым, я не оглядывался, не осматривался по сторонам, боясь быть уличённым. Деревянными, как мрамор, руками, я сложил листы по изогнутым линиям, и положил обратно между цветов. Поправил, чтобы была видна надпись «Бесконечно далёкой», и взглянул ещё раз на рисунок Миши на мраморе. В гладком, отполированном камне я увидел своё увядшее, словно цветок, лицо. Отражение было таким смутным, я щёки настолько выбрито-впалыми, что я не мог различить ничего, кроме этого лица.
Встав со скамьи, я побрёл прочь от этого места. Оно заставило меня слишком сильно расчувствоваться. Любовь, смерть. Я не знал, сталкивался ли с этими чувствами в последние годы. Письмо казалось очень далёким от моей жизни, но крепко засело в голове. Выходя с кладбища, я увидел идущую навстречу девушку, молодую и красивую, и всю дорогу до дома думал: а вдруг это была она, бесконечно далёкая? И если это была она, то найденное письмо – это знак свыше? И зачем и почему именно я обнаружил его?
Почему я?
Этот вопрос стал вторым, неразрешимой загадкой повисшим в моей голове.