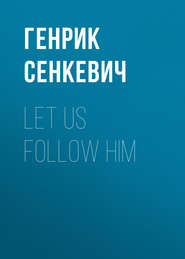По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Щеки Ануси запылали еще сильнее, и она ответила, не задумываясь:
– Вы желали бы получить подарок не из моих, а из других рук, но не получите: там, если и не тесно, то для вас не по росту…
Удар был двойной и направлен метко: в нем заключался, во-первых, намек на маленький рост рыцаря, а во-вторых, намек на его любовь к княжне Варваре Збараской. Пан Володыевский был сначала влюблен в старшую – Анну, но, когда ее помолвили, он затаил горе и посвятил свое сердце Варваре, думая, что никто этого не подозревает. Услыхав это от панны Анны, он так растерялся, что не нашелся, что ответить, хотя и считался первым не только в кровавом, но и в словесном бою.
– Вы тоже метите высоко, – пробормотал он, – высоко… как голова Подбипенты.
– Он действительно выше вас не только как воин, но и как кавалер, – ответила бойкая девушка. – Спасибо, что напомнили мне о нем.
И она обратилась к литвину:
– Подойдите ко мне, мосци-пане! Я тоже хочу иметь своего рыцаря и не знаю, найду ли для моего шарфа более храбрую грудь.
Подбипента вытаращил глаза, не веря своим ушам, но наконец опустился на колени так, что даже пол затрещал.
Ануся перевязала шарф, а потом ее маленькие ручки совершенно исчезли под русыми усами Подбипенты; слышалось только чмоканье и бормотанье; слыша это, пан Володыевский сказал, обращаясь к Мигурскому:
– Можно подумать, что это медведь добрался до улья и высасывает мед.
Потом он отошел, разозлившись, так как почувствовал укол жала Ануси, которую когда-то любил.
Наконец князь начал прощаться с княгиней, и через час весь княжеский двор двинулся в Туров, а войска – к Припяти.
Ночью, во время постройки плота для переправы пушек, за которой наблюдали гусары, пан Лонгин обратился к Скшетускому:
– Вот, братец, несчастье!
– Что случилось? – спросил поручик.
– Да вот эти известия с Украины.
– Какие?
– Запорожцы говорили мне, что Тугай-бей пошел с ордой в Крым.
– Ну так что же? Не будешь же ты плакать об этом.
– Напротив, братец… Ведь ты сам говорил, что мне надо срезать три головы, не казацких, а басурманских, а если татары ушли, то где же я возьму их? Где их искать? А они мне так нужны! Ах как нужны!
Скшетуский, несмотря на свою печаль, улыбнулся и ответил:
– Я догадываюсь, в чем дело: видел, как тебя сегодня посвящали в рыцари. Пан Лонгин развел руками:
– Что скрывать, братец, я полюбил ее, брат, полюбил… Экое несчастье…
– Но не печалься, я не верю, чтобы Тугай-бей ушел, и этих басурман у тебя будет больше, чем комаров над головой.
И действительно, целые тучи комаров носились над людьми и лошадьми, так как войска вступили в непроходимые болота, в пустой и глухой край. Про жителей его говорили:
Сватал шляхтич дочку, Дал ей дегтю бочку Да грибов веночек, Да вьюнов горшочек.
Впрочем, на болотах этих вырастали не только грибы, но и огромные панские поместья.
Княжеские солдаты, родившиеся и выросшие в сухих заднепровских степях, не хотели верить собственным глазам. И там бывали кое-где болота и леса, но здесь весь край казался им сплошной топью. Ночь была погожая, светлая, и при свете луны нигде не видно было ни одной пяди сухой земли. Только кочки чернели над водой, и леса, казалось, вырастали из-под воды, которая хлюпала под ногами лошадей и под колесами. Вурцель приходил в отчаяние.
– Странный поход, – говорил он, – под Черниговом нам грозил огонь, а здесь заливает вода.
Действительно, земля не могла служить здесь твердой опорой ногам, гнулась, тряслась и точно хотела расступиться и поглотить тех, кто двигался по ней.
Войска переправлялись через Припять четыре дня, а потом почти каждый день им приходилось переходить реки и речонки, протекавшие по вязкому руслу. Мостов нигде не было, через несколько дней начались туманы и дожди; люди выбивались из сил, чтобы выбраться из этого проклятого края. Князь спешил, гнал, велел рубить целые леса, устилать дороги и продолжал двигаться вперед. Солдаты, видя, что он не щадит собственных сил и с утра до ночи не сходит с коня и сам следит за работами, не смели роптать, хотя труды их превышали человеческие силы. У лошадей начали слезать копыта, многие падали под тяжестью пушек, а потому пехоте и драгунам Володыевского пришлось самим ташить пушки. Лучшие полки, такие, как гусары Скшетуского и Зацвилиховского, взялись за топоры и принялись мостить дорогу. Это был славный поход, в холоде и голоде, по воде, во время которого воля любимого полководца и одушевление солдат разрушали все преграды. До сих пор еще никто не решался вести здесь войска весной, при разливе вод. К счастью, поход не был ни разу задержан каким-нибудь нападением. Народ был тихий, спокойный, не думал о бунте, и хотя казаки впоследствии подстрекали его, он не примкнул к мятежу. Вот и теперь он смотрел сонными глазами на проходившие мимо полчища рыцарей, которые выступали из лесу как призраки и проходили как во сне. Давал проводников и исполнял покорно все требования. Видя эту покорность, князь строго запретил солдатам своеволие, и за ним не раздавалось ни проклятий, ни жалоб, ни рыданий, а, напротив, когда в деревнях узнавали потом, что это был князь Ерема, люди покачивали головой:
– Вже вин добрый! – говорили они тихо.
Наконец, после двадцатидневных нечеловеческих усилий княжеские войска вступили во взбунтовавшуюся страну. «Ерема идет!» – раздалось по всей Украине – от Диких Полей до Чигирина и Ягорлыка, «Ерема идет!» – раздавалось по городам и деревням, и при этом известии из рук мужиков выпадали косы, вилы, ножи, лица бледнели, чернь толпами бежала на юг, как стадо волков при звуках охотничьих рогов; блуждающий татарин-грабитель соскакивал с коня и прикладывал ухо к земле, прислушиваясь; в уцелевших еще замках и церквах звонили в колокола и пели: «Тебе, Бога, хвалим!»
А этот грозный лев лег у порога восставшего края и отдыхал. Собирался с силами.
XXVI
Между тем Хмельницкий, простояв некоторое время в Корсуни, отступил к Белой Церкви и там основал свою главную квартиру. Орда расположилась по другой стороне реки, пустив свои загоны по всему киевскому воеводству. Напрасно беспокоился пан Лонгин Подбипента, что ему не хватит татарских голов. Пан Скшетуский был прав, предвидя, что запорожцы, пойманные Понятовским под Каневом, дали ложные сведения: Тугай-бей не только не ушел, но и не двигался к Чигирину. Даже больше – к нему со всех сторон подходили новые чамбулы. Пришли азовский и астраханский царьки, никогда до сих пор не бывавшие в Польше, с четырьмя тысячами невольников и свыше двенадцати тысяч ногайских татар, двадцать тысяч белгородских и буджацких – прежде заклятые враги Запорожья и казачества, а сегодня братья и союзники.
Наконец, прибыл и сам Ислам-Гирей с двенадцатью тысячами перекопцев. От этих друзей Запорожья страдала не только вся Украина, страдала не только шляхта, но и весь малорусский народ, у которого жгли деревни, захватывали имущество и забирали в плен мужчин, женщин и детей. В эти времена убийств, пожаров, резни единственным спасением для мужика являлось бегство к Хмельницкому. Там из жертвы он превращался в разбойника и сам опустошал свою землю, зато не подвергалась опасности его жизнь.
Несчастный край! Когда в нем вспыхнул мятеж, его опустошил Николай Потоцкий, потом запорожцы и татары, явившиеся будто бы для его спасения, а теперь над ним навис меч Еремии Вишневецкого. Кто только мог, все бежали к Хмельницкому, даже шляхта, ибо другого выхода не было. Благодаря этому силы Хмельницкого росли, и если он не сразу двинулся в глубь Речи Посполитой, а остался в Белой Церкви, то только для того, чтобы водворить порядок в этой дикой, разнузданной толпе.
И в его железных руках она быстро превращалась в боевую силу. Кадры запорожцев, обученных военному делу, были готовы, чернь разделена на полки, полковниками которых были назначены кошевые атаманы; а чтобы приучить отдельные отряды к войне, их посылали брать замки. Народ этот был по природе воинственным, очень способным к военному делу и, благодаря татарским нашествиям, освоившимся с кровавым делом войны. Двое полковников, Ганджа и Остап, пошли на Нестервар и, взяв его приступом, вырезали всех евреев и всю шляхту. Князю Четвертинскому, на пороге его замка, отрубил голову его собственный мельник, а княгиню Остап взял в неволю. Все действия казаков сопровождались успехом; страх отнимал мужество у «ляхов» и вырывал оружие из их рук. Но полковники не довольствовались этим и требовали, чтобы Хмельницкий вместо того, чтобы пьянствовать и заниматься гаданьем, вел их к Варшаве и не давал бы ляхам опомниться от страха. Пьяная чернь осаждала по ночам квартиру Хмеля, требуя, чтобы он вел ее на ляхов. Он вызвал бунт и вдохнул в него страшную стихию, но стихия эта тянула и его самого к неведомому будущему, на которое он смотрел мрачными глазами, стараясь угадать его своей встревоженной душой. Он один лишь знал, сколько сил таилось под кажущимся бессилием Речи Посполитой. Он вызвал бунт, одержал победу под Желтыми Водами, под Корсунью, поразил коронные войска, – а дальше что?
Он собирал на совет своих полковников и, обводя их взглядом, перед которым все дрожали, задавал им все один и тот же вопрос: «Что же дальше? Чего вы хотите? Идти на Варшаву? Ведь сюда придет Вишневецкий, перебьет ваших жен и детей и двинется за нами со всей шляхтой, окружит нас со всех сторон, и мы погибнем, если не в бою, то на колах. На татарскую помощь рассчитывать нечего, – сегодня они с нами, а завтра уйдут в Крым или предадут нас тем же ляхам. Что же дальше? Говорите! Идти на Вишневецкого? Он и татарам, а не только нам даст отпор, а за это время в самом сердце Речи Посполитой соберутся войска и придут ему на помощь. Выбирайте…» Но полковники молчали.
– Что же вы замолкли и не неволите меня идти на Варшаву? Если вы не знаете, что делать, предоставьте все мне, а я, бог даст, сумею уберечь и ваши головы, и головы всего запорожского казачества.
Оставалось одно: переговоры. Хмельницкий прекрасно знал, что этим путем можно многого добиться от Речи Посполитой, он рассчитывал, что сейм скорее пойдет на уступки, чем на войну, которая будет продолжительна и тяжела. Наконец, он знал, что в Варшаве есть сильная партия, во главе которой стоит король[51 - 12 июня под Белой Церковью еще не знали о смерти короля.] с канцлером и другими вельможами. Партия эта хотела остановить неимоверный рост состояния магнатов, создать из казаков силу и, заключив с ними вечный мир, пользоваться ими в случае внешней войны. При таких условиях Хмельницкий мог рассчитывать на гетманскую булаву из рук самого короля и на бесчисленные уступки казачеству; потому-то он так долго и оставался в Белой Церкви. Он только вооружался, рассылал приказы, собирал народ, создавал целые армии, брал замки, ибо знал, что переговоры Речь Посполитая начнет только с сильным врагом, но в глубь Польши не шел. О, если бы переговоры повели за собой мир! Он совсем обезоружил бы тогда Вишневецкого, а если бы князь продолжал воевать, то мятежником был бы уже не он, Хмельницкий, а князь, и тогда он мог бы пойти на Вишневецкого уже по приказанию сейма и короля; тогда настал бы последний час не только Вишневецкого, но и других магнатов.
Вот какие планы строил самозваный запорожский гетман, но на основание будущего здания часто со зловещим карканьем садилась черная стая тревог и сомнений: достаточно ли сильна эта партия в Варшаве? Начнут ли с ним переговоры? Что скажут сейм и сенат? Останутся ли они глухи к стонам Украины? Простит ли ему Речь Посполитая его союз с татарами? Не слишком ли расширился бунт, можно ли подчинить одичалую толпу какой-нибудь дисциплине? Если даже он заключит мир, то не будут ли мятежники мстить за несбывшиеся надежды! Положение его было ужасное. Если бы взрыв был слабее, с ним бы не начали переговоров, но так как он принял громадные размеры, то переговоры могут оказаться запоздавшими.
В эти минуты сомнений он запирался в своей комнате и пил напролет дни и ночи; тогда между полковниками и чернью распространялась весть: «Гетман пьет!» Его примеру следовали и полковники; дисциплина ослабевала, начинался судный день, царство бесправия и ужаса. Белая Церковь превращалась в ад.
В один из таких дней к пьяному гетману пришел шляхтич Выховский, попавший в плен под Корсунью и ставший теперь секретарем гетмана. Он стал без всякой церемонии трясти напившегося гетмана, чтобы привести его в чувство.
– А это что за черт? – спросил Хмельницкий.
– Проснитесь, пане гетман, посольство пришло. Хмельницкий вскочил на ноги и в одну минуту протрезвел.
– Эй, – крикнул он казаку, сидевшему у порога, – подать шапку и булаву!.. Кто и от кого? – обратился он к Выховскому.
– Ксендз Патроний Ласко из Гущи, от воеводы брацлавского.
– От Киселя?