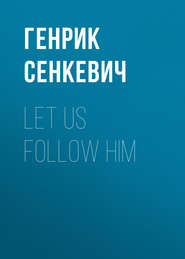По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты больше ничего не видела? – спросил он ее.
– Все, что можно было видеть, я видала, а больше ничего не увижу.
– А ты не лжешь?
– Клянусь головой брата, правду говорила! Его на кол посадят, притянут за ноги на волах. Жаль мне его! Ну не одному ему смерть писана! Сколько трупов я видела, в жизни столько не видала! Должно быть, будет война страшная!
– А ее ты видела с ястребом над головой?
– Да.
– И она была в венке.
– В венке и белом платье.
– А почем ты знаешь, что этот ястреб – я? Я тебе о том ляхе, шляхтиче говорил! Может, это он?
Колдунья наморщила брови и задумалась.
– Нет, – сказала она, встряхнув головой, – будь лях, тогда бы орел показался!
– Слава богу! Слава богу! Теперь я пойду к своим молодцам, велю коней в дорогу приготовить; ночью двинемся.
– Значит, непременно поедешь?
– Хмель наказывал и Кривонос наказывал! Ты видела, что будет великая война; то же самое я и в Баре в письме Хмельницкого читал.
Богун, правда, не умел читать, но стыдился и скрывал это, боясь прослыть неучем.
– Ну так поезжай, – сказала ведьма. – Ты счастливый… Ты гетманом будешь; я видела, как свои пять пальцев, над тобой несли три бунчука.
– И гетманом буду! И на княжне женюсь; не брать же мне мужичку!
– С мужичкой ты бы иначе разговаривал, а коли ты ее стыдишься, надо было тебе ляхом уродиться.
– Я не хуже ляха!
И с этими словами Богун отправился на конюшню к казакам, а Горпина пошла варить обед.
Вечером лошади были уже готовы в дорогу, но Богун не торопился с отъездом. Он сидел в комнате на груде ковров с торбаном в руках и смотрел на свою княжну; она уже встала с постели, но, забившись в другой конец комнаты, тихо шептала молитвы, не обращая никакого внимания на атамана, точно его и не было здесь; а он следил за каждым ее движением, ловил каждый вздох и сам не знал, что с собой делать. Каждую минуту открывал он рот, чтобы начать разговор, но слова не сходили с языка. Он робел при виде бледного лица девушки, с сурово сжатыми губами и нахмуренными бровями. Такого выражения Богун никогда прежде не видал на лице княжны. Он невольно вспомнил такие же вечера в Розлогах, и перед глазами его встало, как он сидел с Курцевичами вокруг дубового стола. Старая княгиня лущила подсолнухи, князья играли в кости, а он смотрел на прелестную княжну, как и теперь смотрит. Как он тогда был счастлив! Когда он рассказывал о своих походах с запорожцами, она слушала его, ее черные глаза останавливались порою на его лице, а раскрытые малиновые губки говорили о том, с каким вниманием она слушала. А теперь она даже не глядела на него… Прежде, бывало, когда он играл на торбане, она и смотрела, и слушала его, – и сердце его таяло… Но странно: ведь он теперь ее господин, он захватил ее с оружием в руках, она его пленница – он может ей приказывать, – а все же тогда он чувствовал себя ближе к ней, более ей равным: Курцевичи были для него братьями, а она, их сестра, была для него не только зозулей, голубкой, любимой девушкой, но и как бы родственницей! А теперь перед ним сидит панна – гордая, хмурая, молчаливая и жестокая! В нем закипел гнев! Показал бы он ей, что значит презирать казака, но он любит ее, жестокую панну, проливал за нее свою кровь… И каждый раз, когда его охватывал гнев, какая-то невидимая рука останавливала его, какой-то голос шептал ему на ухо: «Стой!» А если и вспыхивал он как огонь, то потом бился головой о землю. Только-то всего. И несчастный казак корчился от боли, чувствуя, что его присутствие ей в тягость. Ну пусть бы она улыбнулась, сказала ему хоть одно ласковое слово, – он бы упал к ее ногам, а потом уехал бы к черту, чтобы залить горечь, гнев, унижение кровью ляхов! А теперь он перед этой княжной, как невольник. Если б он не знал ее раньше, если бы она была ляшкой, взятой из первого попавшегося шляхетского дома, он был бы смелее; но это была княжна Елена, которую он униженно просил Курцевичей отдать за него, за которую отдавал и Розлоги, и все, что было у него. Вот почему ему особенно стыдно было показаться перед ней мужиком, вот почему робел он перед нею.
Время уходит; со двора долетает говор казаков, которые, должно быть, сидят уже на конях и ждут своего атамана, а атаман мучится тут. Яркий свет лучины падает на его лицо, на богатый кунтуш и на торбан, – а она хоть бы раз взглянула на него! Его и горе, и гнев, и тоска берет. Он хотел бы проститься с ней нежно, и боится этого прощания, боится, что оно не будет таким, какого он желал бы всей душой, что он уедет с горечью, с болью и гневом в душе.
Эх, не будь это княжна Елена! Княжна Елена, что ранила себя ножом, что грозится наложить на себя руки, – и милая… Чем больше в ней гордости и сопротивления, тем более она…
Вдруг под окном заржала лошадь.
Атаман собрался с духом.
– Княжна, – сказал он, – мне в дорогу пора!
Елена молчала.
– Ты не скажешь мне: с Богом?
– Поезжайте с Богом, ваць-пане! – сказала она серьезно.
Сердце казака сжалось: она сказала то, чего он хотел, но не так, как хотел.
– Ну знаю я, – сказал он, – что ты на меня гневаешься, что ненавидишь меня, но скажу тебе, что другой на моем месте поступил бы хуже. Я привез тебя сюда потому, что иначе не мог сделать; но что я тебе плохого сделал? Разве я не обращался с тобой, как надо, как с царевной? Скажи сама! Разве я уж такой злодей, что ты мне доброго слова не скажешь? А ведь ты в моей власти…
– Я в Божьей власти, – с той же серьезностью, как и прежде, ответила она, – но если ваць-пан сдерживается при мне, то благодарю!
– Спасибо и за эти слова. Может, пожалеешь меня потом, затоскуешь? Княжна молчала.
– Жаль мне оставлять тебя здесь одну, – продолжал Богун, – жаль уезжать, но надо. А лучше бы было, если б ты улыбнулась, от чистого сердца крестик дала мне на дорогу. Что мне делать, чтобы добиться милости твоей?
– Верни мне свободу, а Бог тебе все простит; я тоже прощу и буду благословлять тебя.
– Ну, может, ты и будешь еще свободна, – сказал казак, – а может, и пожалеешь, что была так сурова со мной.
Богун хотел купить эту минуту разлуки хотя бы ценой обещания, которого он и не думал сдерживать, и он добился своего, потому что в глазах Елены блеснула надежда и суровое выражение исчезло с ее лица. Она сложила руки на груди и остановила на казаке свои ясные глаза…
– Неужели ты…
– Ну не знаю, – тихо сказал казак, и стыд и жалость сдавили ему горло. – Теперь не могу, не могу: в Диких Полях – орда, всюду чамбулы ходят, а от Рашкова идут добруджские татары, – не могу, страшно… но когда вернусь… при тебе я дитя, и ты что хочешь со мной сделаешь! Не знаю… Не знаю!..
– Да просветит тебя Господь, да просветит тебя Пресвятая Богородица! Поезжай с Богом!
И она протянула ему руку. Богун подскочил и впился в нее губами. Но вдруг, подняв голову, встретил ее серьезные глаза и отпустил ее руку. Отступая к дверям, он кланялся ей по-казацки, в пояс, поклонился еще раз в дверях и исчез за пологом.
Вскоре из окна долетел оживленный говор, звон оружия, а потом и слова песни, которую пели несколько голосов:
Буле слава славна
Помеж казаками,
Помеж другами —
На долгия лита,
До киньца вика…
Голоса и лошадиный топот удалялись и наконец смолкли.
IV
– Господь однажды совершил уже над нею явное чудо, – говорил пан Заглоба Володыевскому и Подбипенте, сидя в квартире Скшетуского. – Да, явное чудо, ибо позволил мне вырвать ее из собачьих рук и в целости привезти. Будем надеяться, что он еще раз смилостивится над ней и над нами. Лишь бы она была жива. Но мне точно кто-то подсказывает, что он снова ее похитил. Заметьте, Панове: пленные говорили нам, что он после Пульяна был вторым у Кривоноса – чтоб его черти взяли! – значит, при взятии Бара он должен был быть!
– Он мог ее не найти среди этой массы несчастных: ведь там вырезано двадцать тысяч человек, – сказал пан Володыевский.
– О, значит, вы, пане, не знаете его! А я готов присягнуть: он знал, что она в Баре. И уж ясно, что он спас ее от этой резни и куда-нибудь увез.
– Все, что можно было видеть, я видала, а больше ничего не увижу.
– А ты не лжешь?
– Клянусь головой брата, правду говорила! Его на кол посадят, притянут за ноги на волах. Жаль мне его! Ну не одному ему смерть писана! Сколько трупов я видела, в жизни столько не видала! Должно быть, будет война страшная!
– А ее ты видела с ястребом над головой?
– Да.
– И она была в венке.
– В венке и белом платье.
– А почем ты знаешь, что этот ястреб – я? Я тебе о том ляхе, шляхтиче говорил! Может, это он?
Колдунья наморщила брови и задумалась.
– Нет, – сказала она, встряхнув головой, – будь лях, тогда бы орел показался!
– Слава богу! Слава богу! Теперь я пойду к своим молодцам, велю коней в дорогу приготовить; ночью двинемся.
– Значит, непременно поедешь?
– Хмель наказывал и Кривонос наказывал! Ты видела, что будет великая война; то же самое я и в Баре в письме Хмельницкого читал.
Богун, правда, не умел читать, но стыдился и скрывал это, боясь прослыть неучем.
– Ну так поезжай, – сказала ведьма. – Ты счастливый… Ты гетманом будешь; я видела, как свои пять пальцев, над тобой несли три бунчука.
– И гетманом буду! И на княжне женюсь; не брать же мне мужичку!
– С мужичкой ты бы иначе разговаривал, а коли ты ее стыдишься, надо было тебе ляхом уродиться.
– Я не хуже ляха!
И с этими словами Богун отправился на конюшню к казакам, а Горпина пошла варить обед.
Вечером лошади были уже готовы в дорогу, но Богун не торопился с отъездом. Он сидел в комнате на груде ковров с торбаном в руках и смотрел на свою княжну; она уже встала с постели, но, забившись в другой конец комнаты, тихо шептала молитвы, не обращая никакого внимания на атамана, точно его и не было здесь; а он следил за каждым ее движением, ловил каждый вздох и сам не знал, что с собой делать. Каждую минуту открывал он рот, чтобы начать разговор, но слова не сходили с языка. Он робел при виде бледного лица девушки, с сурово сжатыми губами и нахмуренными бровями. Такого выражения Богун никогда прежде не видал на лице княжны. Он невольно вспомнил такие же вечера в Розлогах, и перед глазами его встало, как он сидел с Курцевичами вокруг дубового стола. Старая княгиня лущила подсолнухи, князья играли в кости, а он смотрел на прелестную княжну, как и теперь смотрит. Как он тогда был счастлив! Когда он рассказывал о своих походах с запорожцами, она слушала его, ее черные глаза останавливались порою на его лице, а раскрытые малиновые губки говорили о том, с каким вниманием она слушала. А теперь она даже не глядела на него… Прежде, бывало, когда он играл на торбане, она и смотрела, и слушала его, – и сердце его таяло… Но странно: ведь он теперь ее господин, он захватил ее с оружием в руках, она его пленница – он может ей приказывать, – а все же тогда он чувствовал себя ближе к ней, более ей равным: Курцевичи были для него братьями, а она, их сестра, была для него не только зозулей, голубкой, любимой девушкой, но и как бы родственницей! А теперь перед ним сидит панна – гордая, хмурая, молчаливая и жестокая! В нем закипел гнев! Показал бы он ей, что значит презирать казака, но он любит ее, жестокую панну, проливал за нее свою кровь… И каждый раз, когда его охватывал гнев, какая-то невидимая рука останавливала его, какой-то голос шептал ему на ухо: «Стой!» А если и вспыхивал он как огонь, то потом бился головой о землю. Только-то всего. И несчастный казак корчился от боли, чувствуя, что его присутствие ей в тягость. Ну пусть бы она улыбнулась, сказала ему хоть одно ласковое слово, – он бы упал к ее ногам, а потом уехал бы к черту, чтобы залить горечь, гнев, унижение кровью ляхов! А теперь он перед этой княжной, как невольник. Если б он не знал ее раньше, если бы она была ляшкой, взятой из первого попавшегося шляхетского дома, он был бы смелее; но это была княжна Елена, которую он униженно просил Курцевичей отдать за него, за которую отдавал и Розлоги, и все, что было у него. Вот почему ему особенно стыдно было показаться перед ней мужиком, вот почему робел он перед нею.
Время уходит; со двора долетает говор казаков, которые, должно быть, сидят уже на конях и ждут своего атамана, а атаман мучится тут. Яркий свет лучины падает на его лицо, на богатый кунтуш и на торбан, – а она хоть бы раз взглянула на него! Его и горе, и гнев, и тоска берет. Он хотел бы проститься с ней нежно, и боится этого прощания, боится, что оно не будет таким, какого он желал бы всей душой, что он уедет с горечью, с болью и гневом в душе.
Эх, не будь это княжна Елена! Княжна Елена, что ранила себя ножом, что грозится наложить на себя руки, – и милая… Чем больше в ней гордости и сопротивления, тем более она…
Вдруг под окном заржала лошадь.
Атаман собрался с духом.
– Княжна, – сказал он, – мне в дорогу пора!
Елена молчала.
– Ты не скажешь мне: с Богом?
– Поезжайте с Богом, ваць-пане! – сказала она серьезно.
Сердце казака сжалось: она сказала то, чего он хотел, но не так, как хотел.
– Ну знаю я, – сказал он, – что ты на меня гневаешься, что ненавидишь меня, но скажу тебе, что другой на моем месте поступил бы хуже. Я привез тебя сюда потому, что иначе не мог сделать; но что я тебе плохого сделал? Разве я не обращался с тобой, как надо, как с царевной? Скажи сама! Разве я уж такой злодей, что ты мне доброго слова не скажешь? А ведь ты в моей власти…
– Я в Божьей власти, – с той же серьезностью, как и прежде, ответила она, – но если ваць-пан сдерживается при мне, то благодарю!
– Спасибо и за эти слова. Может, пожалеешь меня потом, затоскуешь? Княжна молчала.
– Жаль мне оставлять тебя здесь одну, – продолжал Богун, – жаль уезжать, но надо. А лучше бы было, если б ты улыбнулась, от чистого сердца крестик дала мне на дорогу. Что мне делать, чтобы добиться милости твоей?
– Верни мне свободу, а Бог тебе все простит; я тоже прощу и буду благословлять тебя.
– Ну, может, ты и будешь еще свободна, – сказал казак, – а может, и пожалеешь, что была так сурова со мной.
Богун хотел купить эту минуту разлуки хотя бы ценой обещания, которого он и не думал сдерживать, и он добился своего, потому что в глазах Елены блеснула надежда и суровое выражение исчезло с ее лица. Она сложила руки на груди и остановила на казаке свои ясные глаза…
– Неужели ты…
– Ну не знаю, – тихо сказал казак, и стыд и жалость сдавили ему горло. – Теперь не могу, не могу: в Диких Полях – орда, всюду чамбулы ходят, а от Рашкова идут добруджские татары, – не могу, страшно… но когда вернусь… при тебе я дитя, и ты что хочешь со мной сделаешь! Не знаю… Не знаю!..
– Да просветит тебя Господь, да просветит тебя Пресвятая Богородица! Поезжай с Богом!
И она протянула ему руку. Богун подскочил и впился в нее губами. Но вдруг, подняв голову, встретил ее серьезные глаза и отпустил ее руку. Отступая к дверям, он кланялся ей по-казацки, в пояс, поклонился еще раз в дверях и исчез за пологом.
Вскоре из окна долетел оживленный говор, звон оружия, а потом и слова песни, которую пели несколько голосов:
Буле слава славна
Помеж казаками,
Помеж другами —
На долгия лита,
До киньца вика…
Голоса и лошадиный топот удалялись и наконец смолкли.
IV
– Господь однажды совершил уже над нею явное чудо, – говорил пан Заглоба Володыевскому и Подбипенте, сидя в квартире Скшетуского. – Да, явное чудо, ибо позволил мне вырвать ее из собачьих рук и в целости привезти. Будем надеяться, что он еще раз смилостивится над ней и над нами. Лишь бы она была жива. Но мне точно кто-то подсказывает, что он снова ее похитил. Заметьте, Панове: пленные говорили нам, что он после Пульяна был вторым у Кривоноса – чтоб его черти взяли! – значит, при взятии Бара он должен был быть!
– Он мог ее не найти среди этой массы несчастных: ведь там вырезано двадцать тысяч человек, – сказал пан Володыевский.
– О, значит, вы, пане, не знаете его! А я готов присягнуть: он знал, что она в Баре. И уж ясно, что он спас ее от этой резни и куда-нибудь увез.