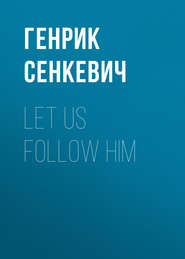По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ваша светлость, я был свидетелем! – сказал он.
– Я пришел сюда не отчет давать, а требовать наказания! – кричал Лащ. Князь повернулся к нему и посмотрел на него пристально.
– Тише! Тише! – сказал князь негромко, но с ударением. В его глазах и сдержанном голосе было что-то до того грозное, что стражник, прославившийся своей дерзостью, вдруг умолк, точно потерял дар слова, а окружающие побледнели.
– Говорите, пане! – обратился князь к Зацвилиховскому.
Зацвилиховский рассказал, как все было, как неблагородно и недостойно издевался Лащ над горем пана Скшетуского и как набросился на него с саблей, какую сдержанность, поразительную для его лет, выказал наместник, ограничившийся только тем, что выбил из рук пана стражника саблю. Старик закончил свою речь так:
– Ваша светлость знает, что я, прожив семьдесят лет, никогда не осквернял свои уста ложью и не оскверню и могу под присягой подтвердить свое показание.
Князь знал, что слово Зацвилиховского – то же золото, к тому же прекрасно знал Лаша; сразу он ничего не ответил, а только взял перо и начал писать; окончив, он обратился к стражнику и сказал:
– Справедливость будет вам воздана!
Стражник открыл было рот и хотел что-то сказать, но не нашел слов и только подбоченился, поклонился и вышел из комнаты.
– Желенский, – сказал князь, – отдай это письмо пану Скшетускому.
Пан Володыевский, не отходивший от Скшетуского, немного смутился, увидев входящего княжеского слугу; он был уверен, что надо будет сейчас же явиться к князю; между тем слуга, оставив письмо и не сказав ни слова, вышел. Скшетуский, прочитав письмо, передал его приятелю.
– Читай! – сказал он. Володыевский взглянул и вскрикнул:
– Назначение поручиком! – и, обняв Скшетуского за шею, поцеловал его в обе щеки.
Чин полного поручика гусарской хоругви был почти саном в войсковой службе. Ротмистром той хоругви, где служил Скшетуский, был сам князь, а номинальным поручиком – пан Суфчинский из Сенчи, человек уже старый и давно оставивший действительную службу.
Пан Ян давно уже исправлял de facto[60 - Фактически (лат.).] обе эти должности, что, впрочем, часто случалось в хоругвях, где два первых чина служили только почетным титулом. Ротмистром королевской хоругви был сам король, примасовской – примас, а поручиками обеих числились высшие придворные сановники; в действительности обязанности их исполняли так называемые наместники, которых благодаря этому в обычном разговоре называли поручиками и полковниками. Таким фактическим поручиком, или полковником, был и пан Ян. Но между фактическим исполнением обязанностей, между званием, которое принято было употреблять в разговоре, и фактическим званием все же большая разница. Теперь благодаря этому назначению Скшетуский становился одним из первых офицеров князя – воеводы русского.
Приятели радостно поздравляли Скшетуского с этой новой честью, но лицо его ни на минуту не изменилось: оно осталось таким же суровым и каменным, как прежде; не было таких почестей на свете, которые могли бы теперь обрадовать его. Но он все же встал и пошел благодарить князя, а маленький Володы-евский ходил между тем по его квартире, потирая руки от удовольствия.
– Ну, ну, – говорил он, – поручик гусарской хоругви! Такой молодой, и поручик. Это вряд ли случалось с кем-нибудь раньше!
– Только бы Бог вернул ему счастье! – сказал Заглоба.
– Но вот что, вот что! Заметили вы, что он даже не дрогнул?
– Он с удовольствием отказался бы от этого, – сказал пан Лонгин.
– Мосци-панове! – вздохнул Заглоба. – Что ж тут странного? Вот эту самую руку, которой я отнял знамя, я отдал бы за нее.
– Да, да!
– Но пан Суфчинский, значит, умер, – заметил Володыевский.
– По всей вероятности, умер!
– А кто же теперь будет наместником? Хорунжий еще молод и только после битвы под Константиновом исполняет эту должность.
Этот вопрос так и остался неразрешенным. Ответ на него принес сам поручик Скшетуский.
– Мосци-пане, – сказал он Подбипенте, – князь назначает вас наместником!
– О боже, боже! – застонал Лонгин, складывая руки, как для молитвы.
– С тем же успехом князь мог бы назначить и его инфляндскую кобылу, – пробормотал Заглоба.
– Ну а рекогносцировка? – спросил пан Володыевский.
– Едем, не мешкая, – ответил Скшетуский.
– Много людей велел взять князь?
– Казацкую хоругвь и валахскую, всего пятьсот человек.
– О, ведь это целый отряд! Если так, то пора ехать.
– В путь! В путь! – повторял пан Заглоба. – Может быть, с Божьей помощью, мы что-нибудь узнаем.
Два часа спустя, когда заходило солнце, четверо друзей выезжали из Чолганского Камня к югу; почти в то же время покинул лагерь со своими людьми и пан коронный стражник. На отъезд его смотрело немало рыцарей из разных полков, не скупившихся на насмешки и ругательства. Офицеры толпились около пана Кушеля, который рассказывал им, отчего князь прогнал пана стражника и как все это случилось.
– Я сам отнес ему приказ князя, – говорил Кушель, – и, скажу я вам, это была рискованная миссия, ибо когда Лащ прочитал его, то взревел, как вол, которого прижгли раскаленным железом, и бросился на меня с кинжалом; странно даже, что он не ударил меня, должно быть, увидел в окно немцев Корыцкого и моих драгун, которые окружили его квартиру. Тогда он начал кричать: «Хорошо, хорошо! Если меня гонят, я уйду. Пойду к князю Доминику, он примет меня любезнее! Не буду, говорит, служить с этими оборванцами! Но отомщу им, кричит, не будь я Лаш! И от этого молокососа потребую удовлетворения». Я думал, что он задохнется от злости – то и дело колол кинжалом стол. И, знаете, я боюсь, как бы со Скшетуским чего-нибудь не случилось. Со стражником шутки плохи: он мстительный и гордый человек, который никому еще ничего не прощал; он храбр и как-никак сановник.
– Ну а что же может случиться со Скшетуским, раз сам князь ему покровительствует? – сказал один из офицеров. – Да и стражник, хоть он и на все готов, будет считаться с такой силой.
Между тем поручик, ничего не зная об угрозах стражника, удалялся со своим отрядом все дальше и дальше от лагеря, направляясь к Ожиговцам, в сторону Буга и Медведевки. Сентябрь позолотил уже листья деревьев, однако ночь была погожая и теплая, как в июле; таков уж был тот год, в котором почти совсем не было зимы, а весной все зацвело в такое время, в какое обычно всюду лежал еще глубокий снег. После сырого лета настали сухие и теплые осенние дни со светлыми, лунными ночами. Отряд ехал по хорошей дороге, без особых предосторожностей, так как был слишком близко к лагерю и ему не могла грозить никакая опасность. Ехали быстро. Наместник с несколькими всадниками впереди, за ними Володыевский, Заглоба и пан Лонгин.
– Взгляните, ваши милости, как луна освещает этот холм, – шептал Заглоба, – совсем как днем. Говорят, что такие ночи бывают только во время войны, чтобы души, покидая тела, не стукались лбами в потемках о деревья, как воробьи о крышу, и легче могли найти дорогу. Сегодня пятница, Спасов день, в который злые духи не выходят из земли и нечистая сила не имеет доступа к человеку. Я чувствую, что мне как-то легко и надежда меня не покидает.
– Хорошо, что мы уже выехали, придумаем что-нибудь для спасения княжны, а это главное, – сказал Володыевский.
– Хуже всего сидеть на месте и мучиться, – продолжал Заглоба, – сядешь на коня, начнешь трястись, отчаяние отойдет от сердца, пока его совсем не вытрясешь.
– Ну я не думаю, – шепнул Володыевский, – чтобы все можно было вытрясти; любовь, например, впивается в сердце, как клещ.
– Если она искренняя, то сколько ни борись, а ее не одолеешь. – И, сказав это, пан Подбипента вздохнул, точно кузнечный мех, а маленький Володыевский поднял глаза к небу, как бы отыскивая на нем звезду, светившую княжне Варваре.
Лошади во всей хоругви начали фыркать, а солдаты отвечали им: «На здоровье!»
Потом все утихло, и только в дальних рядах какой-то грустный голос затянул песню:
В путь ты дальний едешь, воин, Ждет тебя война!
Путь твой труден, день твой зноен, Ночь твоя без сна!
– Старые солдаты говорят, что когда лошади фыркают, то это хорошая примета, – сказал Володыевский.
– Мне точно кто-то подсказывает, что мы не напрасно едем, – ответил Заглоба.
– Я пришел сюда не отчет давать, а требовать наказания! – кричал Лащ. Князь повернулся к нему и посмотрел на него пристально.
– Тише! Тише! – сказал князь негромко, но с ударением. В его глазах и сдержанном голосе было что-то до того грозное, что стражник, прославившийся своей дерзостью, вдруг умолк, точно потерял дар слова, а окружающие побледнели.
– Говорите, пане! – обратился князь к Зацвилиховскому.
Зацвилиховский рассказал, как все было, как неблагородно и недостойно издевался Лащ над горем пана Скшетуского и как набросился на него с саблей, какую сдержанность, поразительную для его лет, выказал наместник, ограничившийся только тем, что выбил из рук пана стражника саблю. Старик закончил свою речь так:
– Ваша светлость знает, что я, прожив семьдесят лет, никогда не осквернял свои уста ложью и не оскверню и могу под присягой подтвердить свое показание.
Князь знал, что слово Зацвилиховского – то же золото, к тому же прекрасно знал Лаша; сразу он ничего не ответил, а только взял перо и начал писать; окончив, он обратился к стражнику и сказал:
– Справедливость будет вам воздана!
Стражник открыл было рот и хотел что-то сказать, но не нашел слов и только подбоченился, поклонился и вышел из комнаты.
– Желенский, – сказал князь, – отдай это письмо пану Скшетускому.
Пан Володыевский, не отходивший от Скшетуского, немного смутился, увидев входящего княжеского слугу; он был уверен, что надо будет сейчас же явиться к князю; между тем слуга, оставив письмо и не сказав ни слова, вышел. Скшетуский, прочитав письмо, передал его приятелю.
– Читай! – сказал он. Володыевский взглянул и вскрикнул:
– Назначение поручиком! – и, обняв Скшетуского за шею, поцеловал его в обе щеки.
Чин полного поручика гусарской хоругви был почти саном в войсковой службе. Ротмистром той хоругви, где служил Скшетуский, был сам князь, а номинальным поручиком – пан Суфчинский из Сенчи, человек уже старый и давно оставивший действительную службу.
Пан Ян давно уже исправлял de facto[60 - Фактически (лат.).] обе эти должности, что, впрочем, часто случалось в хоругвях, где два первых чина служили только почетным титулом. Ротмистром королевской хоругви был сам король, примасовской – примас, а поручиками обеих числились высшие придворные сановники; в действительности обязанности их исполняли так называемые наместники, которых благодаря этому в обычном разговоре называли поручиками и полковниками. Таким фактическим поручиком, или полковником, был и пан Ян. Но между фактическим исполнением обязанностей, между званием, которое принято было употреблять в разговоре, и фактическим званием все же большая разница. Теперь благодаря этому назначению Скшетуский становился одним из первых офицеров князя – воеводы русского.
Приятели радостно поздравляли Скшетуского с этой новой честью, но лицо его ни на минуту не изменилось: оно осталось таким же суровым и каменным, как прежде; не было таких почестей на свете, которые могли бы теперь обрадовать его. Но он все же встал и пошел благодарить князя, а маленький Володы-евский ходил между тем по его квартире, потирая руки от удовольствия.
– Ну, ну, – говорил он, – поручик гусарской хоругви! Такой молодой, и поручик. Это вряд ли случалось с кем-нибудь раньше!
– Только бы Бог вернул ему счастье! – сказал Заглоба.
– Но вот что, вот что! Заметили вы, что он даже не дрогнул?
– Он с удовольствием отказался бы от этого, – сказал пан Лонгин.
– Мосци-панове! – вздохнул Заглоба. – Что ж тут странного? Вот эту самую руку, которой я отнял знамя, я отдал бы за нее.
– Да, да!
– Но пан Суфчинский, значит, умер, – заметил Володыевский.
– По всей вероятности, умер!
– А кто же теперь будет наместником? Хорунжий еще молод и только после битвы под Константиновом исполняет эту должность.
Этот вопрос так и остался неразрешенным. Ответ на него принес сам поручик Скшетуский.
– Мосци-пане, – сказал он Подбипенте, – князь назначает вас наместником!
– О боже, боже! – застонал Лонгин, складывая руки, как для молитвы.
– С тем же успехом князь мог бы назначить и его инфляндскую кобылу, – пробормотал Заглоба.
– Ну а рекогносцировка? – спросил пан Володыевский.
– Едем, не мешкая, – ответил Скшетуский.
– Много людей велел взять князь?
– Казацкую хоругвь и валахскую, всего пятьсот человек.
– О, ведь это целый отряд! Если так, то пора ехать.
– В путь! В путь! – повторял пан Заглоба. – Может быть, с Божьей помощью, мы что-нибудь узнаем.
Два часа спустя, когда заходило солнце, четверо друзей выезжали из Чолганского Камня к югу; почти в то же время покинул лагерь со своими людьми и пан коронный стражник. На отъезд его смотрело немало рыцарей из разных полков, не скупившихся на насмешки и ругательства. Офицеры толпились около пана Кушеля, который рассказывал им, отчего князь прогнал пана стражника и как все это случилось.
– Я сам отнес ему приказ князя, – говорил Кушель, – и, скажу я вам, это была рискованная миссия, ибо когда Лащ прочитал его, то взревел, как вол, которого прижгли раскаленным железом, и бросился на меня с кинжалом; странно даже, что он не ударил меня, должно быть, увидел в окно немцев Корыцкого и моих драгун, которые окружили его квартиру. Тогда он начал кричать: «Хорошо, хорошо! Если меня гонят, я уйду. Пойду к князю Доминику, он примет меня любезнее! Не буду, говорит, служить с этими оборванцами! Но отомщу им, кричит, не будь я Лаш! И от этого молокососа потребую удовлетворения». Я думал, что он задохнется от злости – то и дело колол кинжалом стол. И, знаете, я боюсь, как бы со Скшетуским чего-нибудь не случилось. Со стражником шутки плохи: он мстительный и гордый человек, который никому еще ничего не прощал; он храбр и как-никак сановник.
– Ну а что же может случиться со Скшетуским, раз сам князь ему покровительствует? – сказал один из офицеров. – Да и стражник, хоть он и на все готов, будет считаться с такой силой.
Между тем поручик, ничего не зная об угрозах стражника, удалялся со своим отрядом все дальше и дальше от лагеря, направляясь к Ожиговцам, в сторону Буга и Медведевки. Сентябрь позолотил уже листья деревьев, однако ночь была погожая и теплая, как в июле; таков уж был тот год, в котором почти совсем не было зимы, а весной все зацвело в такое время, в какое обычно всюду лежал еще глубокий снег. После сырого лета настали сухие и теплые осенние дни со светлыми, лунными ночами. Отряд ехал по хорошей дороге, без особых предосторожностей, так как был слишком близко к лагерю и ему не могла грозить никакая опасность. Ехали быстро. Наместник с несколькими всадниками впереди, за ними Володыевский, Заглоба и пан Лонгин.
– Взгляните, ваши милости, как луна освещает этот холм, – шептал Заглоба, – совсем как днем. Говорят, что такие ночи бывают только во время войны, чтобы души, покидая тела, не стукались лбами в потемках о деревья, как воробьи о крышу, и легче могли найти дорогу. Сегодня пятница, Спасов день, в который злые духи не выходят из земли и нечистая сила не имеет доступа к человеку. Я чувствую, что мне как-то легко и надежда меня не покидает.
– Хорошо, что мы уже выехали, придумаем что-нибудь для спасения княжны, а это главное, – сказал Володыевский.
– Хуже всего сидеть на месте и мучиться, – продолжал Заглоба, – сядешь на коня, начнешь трястись, отчаяние отойдет от сердца, пока его совсем не вытрясешь.
– Ну я не думаю, – шепнул Володыевский, – чтобы все можно было вытрясти; любовь, например, впивается в сердце, как клещ.
– Если она искренняя, то сколько ни борись, а ее не одолеешь. – И, сказав это, пан Подбипента вздохнул, точно кузнечный мех, а маленький Володыевский поднял глаза к небу, как бы отыскивая на нем звезду, светившую княжне Варваре.
Лошади во всей хоругви начали фыркать, а солдаты отвечали им: «На здоровье!»
Потом все утихло, и только в дальних рядах какой-то грустный голос затянул песню:
В путь ты дальний едешь, воин, Ждет тебя война!
Путь твой труден, день твой зноен, Ночь твоя без сна!
– Старые солдаты говорят, что когда лошади фыркают, то это хорошая примета, – сказал Володыевский.
– Мне точно кто-то подсказывает, что мы не напрасно едем, – ответил Заглоба.