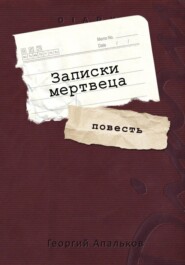По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Утренний приём пищи по форме номер «ноль»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты, кстати, знаешь, что ЦП на сленге задротов в интернете – это «Чилдрен Порн» или как-то так, – сказал какой-то толстяк, с которым я тащил стол.
– Тащи давай, не пизди!
В общем, мы расставили на центральном проходе столы и накрыли их скатертями. После этого нас вывели на плац, чтобы ещё немножко вымотать строевой. Последний раз в этом году.
– Раз! Раз! Раз два три! – считал Анукаев, – ПРЯМО!
«Хтрум-хтрум-хтрум!»
– ПРЯМО!
«Хтрум-хтрум-хтрум!»
– От-т заебца!
Потом мы долго, долго курили. Сигарет к тому моменту у нас было в обрез. Запасы, привезённые из дома, у большинства ребят закончились. Остались они только у тех, кто приехал в часть аккурат перед Новым годом. То был третий взвод: чуваки, которых отловили на улицах столицы, кажется, в самый последний день призыва и привезли сюда. Среди них был один любопытный персонаж – рядовой Мюллер. Мюллер был маленьким, толстым пивным человечком. Казалось, до армии он владел небольшим заводом, на котором он гнал свой нажористый Мюллербрау и продавал его по бросовой цене лучшим барам столицы. Мюллер был чрезвычайно запаслив. Он тащил в свои карманы всё хоть мало-мальски ценное, до чего дотрагивались его маленькие, надутые жирцом ручки. Сигаретами он тоже запасся впрок. Вчера он попросил у Грешина разрешения взять из своей сумки целый блок:
– Та-щ прапорщик, разрешите обратиться из строя, рядовой Мюллер!
– Ну?
– Разрешите не пачку взять, а блок, та-щ прапорщик.
Грешин даже как-то смутился.
– Ты как волк из «Ну, погоди» куъить собъался, по десять за ъаз?
– Та-щ прапорщик, всем хочу раздать. Вдруг кто угоститься захочет.
Это был третий или четвёртый день Мюллера в части. Он хотел сделать широкий жест, чтобы сразу понравиться сослуживцам. Мы этот жест оценили.
– Хуй с тобой, лови, – ответил Грешин и швырнул блок сигарет Мюллеру в голову.
Радость от халявы быстро сошла на нет: Мюллер курил дешёвую солому, пропитанную жидким никотином. То были самые дешёвые сиги из всех, что можно было купить за деньги. Но, как сказал Батонов, принимая в дар сразу несколько пачек:
– На халяву и хлорка – творог, хэ-хэ-хэх!
И вот, мы курили. Кто-то докуривал остатки своих царских сигареток с мятными и фруктовыми кнопками, а кто-то сосал мюллеровскую шнягу и, в общем-то, тоже чувствовал себя неплохо.
После обеда нас ждала развязка самой главной интриги сегодняшнего дня: кто же встанет в наряд в новогоднюю ночь. Прапорщик Совин зачитал две фамилии, а на третьей остановился.
– А третьим в этой компании я хочу видеть рядового Мюллера. Где он?
– Я!
– Выйти из строя, рядовой Мюллер!
– Есть!
Мюллер вышел. Чудной малый, всё же. Его будто бы нарисовали для мультика, а потом он оказался не нужен, и его выбросило сюда, к нам. Голова его настолько плавно перетекала в плечи, минуя шею, что казалось, будто создать такое способна только рука художника-карикатуриста, но никак не природа, и уж точно не, прости господи, Бог.
Мюллер не понимал, за что ему это, но спросить не решался. Да и не нужно было: Совин прекрасно видел немой вопрос в недовольном выражении его краснощёкого лица-блинца.
– Знаешь, почему я ставлю тебя сегодня в наряд, рядовой Мюллер?
– Никак нет.
– Потому что ты мне не нравишься, рядовой Мюллер. Вижу я в тебе какое-то… Что-то вот такое… Ну, ты понял меня короче, да?
– Так точно, та-щ прапорщик.
– Я буду за тобой следить, рядовой Мюллер, понял? Приглядывать буду. Усёк?
– Так точно, та-щ прапорщик.
– Всё, встать в строй!
– Есть!
Мы не знали и не могли знать, за что Совин невзлюбил Мюллера. Наверное, это был закон природы: Совин был хищником, а Мюллер – очередной полевой мышкой, попавшейся в цепкие когти прапорщика, и ничего уж тут не поделаешь.
Новый год начался после ужина. С ужина мы пришли голодными: мы ж не дураки какие, набивать кишки рыбой с капустой, когда в казарме нас ждёт сахарно-холестериновый шок. А он нас там ждал – ох-х, ждал! Мы вернулись в расположение где-то в половине восьмого и увидели уже накрытый длиннющий стол, ломившийся от яств, названия которых мы уже успели позабыть. Там было всё. Всё, кроме бухла, да и, по большому счёту, бухло как идея меркло в сравнении с нашей тоской по зазаборной пище. Вот эта вот вся блестящая в свете ламп курица, запечённая в чём-то чесночном, салаты, липкие от майонеза, печенье, вафли, рулеты и вафли, вафли сука вафли! пестрили перед нами, сверкая килокалориями. На этом фоне бухло казалось чем-то излишним и даже неприличным.
Мы заняли позиции перед столом, но за стол пока не садились. Было ещё одно важное дело, с которым надо было разобраться. Анукаеву поручили записать видео для наших мам. О том, как мы классно отмечаем Новый год, и как прапорщик Грешин классно освоил выделенный ему под это дело бюджет. Видео должно было быть преисполнено красоты, но красоты в армейском её понимании.
Брус написал речь. Анукаев прочитал речь, снимая на мобилу стол и нас напротив стола, стоящих по стойке смирно. Рядовой Анукаев читал текст глубоким, несвойственным ему прапорским басом:
– ДуРуГие МуМы! В эТаТ ЗнуМиНуТиЛьНъй ДиЕнь…
Гласные проваливались глубоко в горло, а те, которые не проваливались, Анукаев заталкивал сам, подпирая их опущенным к кадыку подбородком, чтоб они не выскочили изо рта фальцетом, обнажив в нём пустопогонного рядового.
Всё это было прекрасно. Радость и предвкушение праздника смешались с нелепицей, с театром, который нам приходилось играть перед камерой ради показухи. Да ещё и этот голос Анукаева… Да ещё и этот Мюллер на тумбе дневального, с пенным нефильтрованным брюхом, втянувший шею так, что голова его стала похожа на яйцо на одноногом подъяичнике, как у королей в мультиках.
– …мюллер ща ебанёт от серьёзности, зырь…
– …ох-х, ло-опнет, уп-п-п!..
– …па-аберегись! бдум! быщ!..
– Ну вы, уёбки! – гаркнул на нас Анукаев, выплюнув из горла прапорский ком, – Снимаем по новой. Будем снимать до тех пор, пока последний уёбок не потеряет желание смеяться в кадре.
Не смеяться было тяжело. Нам было хорошо.
Когда видео получилось, нам, наконец, разрешили приступить к первому за месяц приёму пищи, который не был ограничен во времени и пространстве. Во время него можно было разговаривать, можно было ходить из одного конца стола в другой за газировкой или чем-нибудь эдаким, можно было сидеть как вздумается. Дозволено было всё то привычное, что раньше запрещалось, а о большем в этот вечер мы не могли и мечтать.
В полночь мы стоя и молча слушали президента. Когда он сказал про нас – вот именно про нас – мы ощутили себя на вершине балдёжа и гордости за самих себя. Потом пробили куранты и заиграл гимн, ознаменовав, без преувеличения, новый этап нашей здешней жизни.
– В этом году домой, – сказал кто-то, когда закончился гимн.