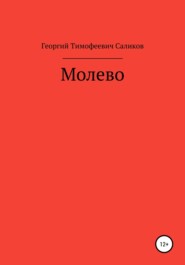По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Василеостровский чемодан
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А он что у вас, самоходный?
– Именно самоходный, сам ходит, не управляемо.
– А зачем?
– Чего зачем?
– Того зачем. Почему вы его таким сделали? Зачем он ходит сам, а вам не повинуется?
– Э, да он повинуется, повинуется, здорово повинуется, и знаете, кому?
– Знаю.
– Эка, прямо-таки и знаете?
– Догадался: он покоряется звёздам.
– Ух, ты, и верно, звёздам, ну, вы и догадливый.
– Это я просто так сказал, потому что думал о них сегодня. И ещё они мне снились. Днём. Тоже сегодня. Минуту назад.
– А, так это совпадение.
– Угу, чисто случайное.
ГЛАВА 8
Возможно, профессор сам навязался посидеть у Босикомшина.
– Да, заходите, конечно, – владелец каюты сконфузился и доску чуть не выронил в воду. Но, заметив неожиданную слабину в руках, стиснул пальцы покрепче. Он уже давно мог бы поднять её обратно на палубу, но что-то не позволяло ему осуществить простое движение. Растерянность? Сожаление? Что же делать, когда по руслу реки уплыли предметы, которые уже начали, было, активно участвовать и в его русле, жизненном? Руки опустились, но доску не выпускали. Она лишь кончиком окунулась в воду.
Пока профессор пробирался в обход, с кораблика одного на судёнышко другое, Босикомшин всё держался за доску. За доску судьбы, что ли? Эта доска – печать судьбы? Таинственные линии на ней действительно знаменовали неисповедимые пути. Вот одна длинная линия, толщиною изменяемая, а другая ровная, но, не доходя до конца, поворачивается обратно и теряется. А вон ещё много мелких чёрточек, они появляются не из чего и пропадают в нём же. Те, что прямые и длинные, так они прерываются еле заметными штрихами и уже не могут претендовать на идеал. И трещина есть на доске. Сразу не заметишь. Да не одна. Босикомшин и вздохнул вдруг шумно, с прерывистостью, видя судьбу далеко не совершенной. Так, расслабив жилы в пальцах, он самопроизвольно отпустил печать судьбы в вольное плаванье. Та, поднырнув под накопленный тут язык мусора, состоящего из сухого камыша, пробок и пластиковых бутылок, приняла неколебимо горизонтальное положение и двинулась в сторону моря по узкому проходу меж мёртвых судов. А на переднем кончике этого нового плавсредства, оказавшегося единственным подвижным средь кладбищенских экспонатов, зацепившись за гвоздь, висел, поблёскивая наполовину под водой, золотистый ключ от двери квартиры профессора Предтеченского. Он будто символизировал поднятый якорь новоявленного судна. Но никто не увидел здесь красоты обновления сцены, поскольку профессор уже удалился, а Босикомшин в тот же момент обернулся назад.
– Эка история, – Босикомшин обернулся назад, разыскивая взглядом профессора. И разыскал. Тот как раз подходил к нему из-за спины, – глядите-ка, и доска уплыла. Только не своим ходом, как чемодан, а по течению. – Он машинально показывал рукой куда-то за борт, но смотрел на пришельца.
– Да, верно, что было, то сплыло, – ответил профессор, тоже не глядя в сторону доски с крючком и с тем, что на нём.
И оба прошли в каюту.
– Что же, дорогой мой встречник. Если целый день нас сводили да сближали и даже сталкивали, то, наверное, не просто так. В подобном предприятии, думаю, смысл неразгаданный есть. Звёзды, говорите? О них вы размышляли, и они вам снились? Значит, совпадение произошло нарочно.
– Я и не сомневаюсь, что нарочно.
– А хотите, я вам расскажу о чемодане?
– Хочу. Нет, я не из вежливости говорю, я и вправду, по-настоящему хочу. Но подождите немного. Печку затопим? Дрова имеются, – и Босикомшин с большим удовольствием стал разделывать теперь уже единственную доску. Сначала он старательно расщепил деревянный предмет по таинственным линиям судьбы до палочек такой толщины, при которой их достаточно разламывать через колено. И колено он тоже отдал в жертву удовольствия. Немножко больно, да оно того стоит. Хорошая оказалась доска – на целую затопку.
– Щас.
И вновь загудело пламя в печи. Двое мужчин оказались в окружении всех классических стихий: подле огня, гудящего в воздухе, в железном корабле, сидящем в воде на земляной мели.
– Давайте про чемодан.
– Это, знаете, такой инструмент, прибор для преобразования перспективы.
– Телескоп, что ли?
– Нет, телескоп меняет фокусное расстояние, угол зрения, но перспектива сама по себе сохраняется. А мой прибор преобразовывает зрение. Ну, не человеческое зрение, а зрение прибора. Его он делает цилиндрическим с параллельными лучами.
– Как у стрекозы.
– Может быть. Не совсем. У неё всё-таки фасетка линзевидная, фокусируется там свет. Есть и ходы параллельных лучей. Не знаю, особо не изучал. Хотя, аналог есть. Глаз у стрекозы умеет различать цвет. Но в моём аппарате создаётся вход лучам только параллельно. И с нацеливанием на звёзды. Каждая трубочка на миг будто вонзается в звезду и получает от неё колоссальный световой импульс. Потому что перспектива исчезает, и трубочка видит звезду как бы в упор.
– Ага, лазер. Гиперболоид инженера Гарина.
– Ну. Лазер излучает свет, а этот прибор, наоборот, принимает. Он – приёмник света. Есть же приёмники радио. А этот – света. Он может разглядеть в упор даже очень далёкую звезду. На миг. Только вот конфуз произошёл у меня. Вместе со светом принимается и жар. Хе-хе. Что произошло в трубочках, я и сам не понял. Делал одно, вышло другое. Затеялся у них там приём энергии через неизвестного рода проводник или, как говорится, сверхпроводник, передающий эту энергию от любой звезды, несмотря на расстояние. И только на звёзды настроен он, более ни на что. Каждая трубочка донышком принимает на мгновенье температуру в миллион градусов. Это происходит именно в тот миг, когда она точно попадает зрением на какую-нибудь звезду. И свет видит и жар принимает. Вы же знаете, – звёзд очень много, потому и вероятность попадания на одну из них довольно большая. Тем более, качаясь на волнах, мой приёмник постоянно в движении, а значит, беспрерывно шарит по небу. Вот так, получая сконцентрированные энергетические импульсы от звёзд, мой прибор или «чемодан», как вы его прозвали, и передвигается. Моторчик у него простой, реактивный.
– Так он может и печкой работать, – обрадовался Босикомшин, – вы же говорите о миллионе градусов.
– Конечно. И печкой.
– Жалко, упустили, – Босикомшин с горечью смотрел на догорающий огонь в печи, – а то бы и погрелись.
– А я и такое пробовал. Только не в помещении, конечно, а на природе, под открытым небом. Подвесишь его там, где ветерок дует, он покачивается на ветерке и греет.
«Правда, я мечтал тогда о другом, – подумал про себя Клод Георгиевич, – я представлял себе другой механизм и совсем для других целей».
– Так это же колоссальное изобретение! Нобелевская премия, а вы его выставили в Неву. Зачем?
– Да затем, что не нужно ничего такого. От подобных изобретений одна беда, и более ничего.
– Не знаю, какая беда. И свет, и электричество, и движение, и тепло. Ведь до вас ещё никто не додумался иметь пользу от звёзд. Солнцем единым питаемся. А от звёзд ещё никто не питался. Вы первый. Неисчерпаемый кладезь! Наконец-то появился толк от этих великанов. А то, что же получается – миллиарды огненных шаров, совершенно никчёмных и бесполезных, заполняют всё вокруг. Но теперь нам не грозит никакой энергетический кризис. И жечь ничего не надо. Оно ведь главнее всего на свете. Ничего не надо жечь. Огонь вообще не нужен. Все эти дрова, уголь, нефть, – сущая первобытовщина!
Босикомшин сделал паузу и посмотрел в окошко на Неву.
– А можно и просто плотик самоходный сделать. Чтоб через Неву и без мостов перебираться. А? – он прищурил глаза, – и не просто плотик, а с удобствами: с печкой, электричеством. И корабль можно… да, но корабль одному не построить, а вот плотик с домиком…
– Ну, вообще-то я не собирался изобретать аппарат для, так сказать, бытовых удобств. Я делал музыкальный инструмент, вернее, проигрыватель. Звёздный проигрыватель. Это, когда проведёшь по небу приёмником, и каждая звезда, их свет преобразовываются в звук. Получается музыка. Проводишь так – одна музыка, проводишь иначе – другая. И нет никакого повтора. Музыка разная. Каждая трубочка ловит случайную звезду. Одновременно несколько трубочек ловят разные звёзды. Производится совершенно естественная музыка, ранее никем не слышимая. И она меняется, меняется. Я хотел ещё соединить механизмы, двигающие трубочки-проигрыватели с механизмами других трубочек, ловящих ветер. Об этом я уже успел сказать вам, когда вспомнил о том, как пробовал заставить чемодан работать печкой на природе, под открытым небом. Я подвесил его там, где ветерок дует, он покачивался на ветерке и грел. Но я представлял тогда, будто начинает играть орган. Ну, куда там органу до такого звучания. Всё естественно – звёзды и ветер… Звёзды двигают ловушки для ветра, и тот извлекает звук из труб. Ветер двигает ловушки для звёзд, и они извлекают звук. Не обязательно двигать им, достаточно лишь навести на один из участков неба. Звёзды перемещаются по определённому участку и звучат. Меняешь участки, меняется музыка. Фонотека – бескрайняя… Но получилось так, что преобразовывая свет в звук, само собой получилось преобразование жара в двигатель. Такие выходят преобразования. И, вот, пока, похоже… похоже, – Клод Георгиевич готов был сказать, что нужный инструмент у него пока до полной отчётливости создался только в воображении, но тут же сам перестроился и сказал совершенно иное.
– Похоже, я построил такой инструмент… О, сколько лет я его строил. Я боялся, что меня осмеют, я делал всё в тайне…
Профессор затих, пытаясь проделать верное движение в переполненной памяти и при её помощи воспроизвести картину прошедших мук. Движение было, конечно же, непохожим на звёздный проигрыватель. И то, что оно воспроизводило, ничем не напоминало музыку.
– Ты опять дома сидишь? А кто же работать будет? Сколько можно сидеть и ни черта не делать, – говорит жена с заученной интонацией упрёка. Она зашла домой во время обеденного перерыва или просто, выкроив несколько минут из плотного рабочего времени.
Клод Георгиевич ничего не отвечал. Он лишь быстро прятал всё, что успел нарисовать. Прятал в старинные деревянные шкатулки, постоянно расположенные в постоянном порядке под роялем. Он это делал неуклюже, заметно. Потом, также ничего не говоря, выходил из дома. И такое бывало почти каждый день. Иногда удавалось успеть уйти до прихода жены, но всё равно сосредоточение нарушалось, а вдохновение разом пропадало. Дело почти не продвигалось. Для восстановления творческого настроя – времени уже не оставалось. Было, скорее, больше желания делать, чем самого дела. Желание перехлёстывало, забегало вперёд и собой заменяло задуманное дело. Из-за него вообще всё стопорилось. Надо выбирать одно из двух: или делать, или мечтать о деле. То и другое вместе, вперемежку, останавливает дело. И желание тоже. Это большое и, думается, пожизненное несчастье – не уметь отделять такие два противоположных действия. И Предтеченский, не отличаясь от многих себе подобных людей, вроде бы творческих, но в то же время и весьма зависящих от внешних обстоятельств, никак не мог избавиться от обычного такого несчастья. Та беда крепко сидела в нём генетически. Оттого на собственно делание – времени у него не хватало. Длинные стояния мечтаний и желаний заменяли предполагаемое дело, фальсифицировали его. Получалось так: пережив в душе и в уме то, что предстояло ему сделать, он уже испытывал… ну, не усталость, а почти убедительное ощущение необязательности, ненужности работать. Выходило, будто уже высказался, а повторяться ему очень даже не любилось. Такая несильная натура профессора не позволяла имеющимися в нём скромными потугами помочь далеко идущим помыслам. Тем более, и сами помыслы, имея что-то общее с мечтами и желаниями, частенько заигрывали с ними, да так и пропадали в их огне. А уклад его жизни, вернее, бытовой части существования ещё более способствовал неделанию. Ну что с того, если он сейчас не дома. Жене-то ясно, что не нравилось. Ей не нравилось его сидение дома вместо хождения на работу. А на какую работу? Разумеется: на такую, где платят деньги. И Предтеченский каторжно вынуждал себя делать вид, будто ищет именно денежную работу. Вернее, он, порой, и по-настоящему искал. Думал найти. Но не находил. Всё то же несчастье. Желание перехлёстывало дело и оказывалось в выигрыше. Дело куда-то пряталось внутри желания, не давалось, не показывалось на глаза, подобно тому утерянному ключу от собственной квартиры. Время, как ему и подобает, уходило в прошлое, а воплощение идей простиралось в более и более далёкое будущее. Господи, о каком будущем мы говорим? У такого будущего нет и не должно быть видимой и невидимой дали. Мы же знаем, что истинное будущее, – исключительно в том случае будущее, если оно никогда не станет прошлым. Оно живо в самом себе. А то, что представляется нами впереди, но затем причудливым образом перекидывается назад, по правде говоря, и есть всегдашнее прошлое, оно имеет природу прошлого, оно оттуда и явилось пред наши очи. Ай-ай-ай, как нехорошо оно поступает. Ожидание события, непременно всегда происходящего друг за другом (время-то продолжается), такое ожидание не будущего, а именно прошлого, минующего. Если мы хотим получить желаемое в виде успеха, хотим, чтобы оно сбылось, значит, и получим только приходящего и проходящего. Прошлого мы хотим. Само слово “сбылось” потрясающе точно говорит о том: нечто состоялось былым, стало тем, что прошло. Выходит, представляемый нами мир будущего находится как раз в мире прошлого. И словечко для него давно придумано: преходящее. Все мы какие-то прошлецы. А будущее остаётся будущим при единственном условии, для нас таинственном, страшном. Условие, конечно же, и проще простого, – в конце времён… Да, будущее дюже страшновато. А прошлое полностью безопасно. Возможно, именно поэтому средь человечества существует стремление из любого будущего сделать прошлое. Для надёжности. Но профессор, конечно, попрекнул бы нас за излишнее философствование. Он ведь имел в виду то, что правильнее бы назвать попросту воткнутом в вечность предмете, для нас предстоящим в аморфно текущем варенье времени. Задумка потому что у него. Музыкант собирался прибор сделать, инструмент, хорошее орудие. Надо было завершить мечту. Сначала полагал спроектировать, а потом изготовить, воплотить исключительно без свидетелей. Когда он его рисовал на бумаге, получалось одно, а когда стал изготавливать, то получилось другое – само как-то изменилось. Вернее, прорвалось. То другое, поначалу вовсе не задумывалось. Но вдруг это «оно» в такой степени нагло возникло, что без всякого стеснения изъявляло о себе ежечасно. Ну что, скажите, в музыке есть такого очень уж полезного? Не светит и не греет. Физически не светит и не греет. А то, что прорвалось, обладало именно такими качествами: поистине и светит, и греет. Профессору был необходим преобразователь звёздного света в музыку, вообще в звук. Но сначала надо было достать свет с далёких звёзд. Здесь ключевая задача. Для решения такой ключевой задачи понадобился его математический талант, который, кстати, не затухал на протяжении бесчисленных лет музыкальных занятий и, нате вам, – сработал наилучшим образом. Так, решив задачу, без чего нельзя было бы воплотить главную идею, получив, наконец, на дне трубочек исключительно заветный свет и совершенно непредвиденный жар, всякое дальнейшее делание профессор прекратил. Главная идея потускнела. Построив модель ловушки звёздного света, а попутно и жара, профессор приостановил дальнейшее производство настоящего изделия, заслонился от жгучей мечты. Факт получения энергии непосредственно от звёзд оказался настолько сильным, что главная первоначальная идея, ради которой та энергия доставалась, – как-то изгладилась, ушла даже за черту желаемого, стала второстепенной, а то и вовсе ненужной. Звёздная энергия в чемодане. Разве того мало человеку? У него есть всё… да, да, да, – всё. Но звёзды? Потерпят ли такое звёзды? Странным образом только они поддаются проводнику, соединяющему их с «чемоданом». Вот вопросик. Мало ли чего вздумает обладатель этого чемодана. Пожалуй, всё и вздумает. Ну, звёзды, может быть, и потерпят. Пусть, даже неохотно. А кто другой? Кто?
Картина в памяти погасла.