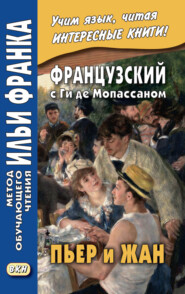По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Милый друг
Автор
Жанр
Год написания книги
1885
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И прибавил после паузы:
– У меня есть только поэзия.
Потом, подняв голову к небу, где сияла бледная луна, он продекламировал:
И скорбно я ищу разгадки тайны вечной
В пустынных небесах, где бродит отблеск млечный.
Они дошли до моста Согласия, молча перешли его, потом прошли мимо Пале-Бурбон. Норбер де Варенн снова заговорил:
– Женитесь, мой друг, вы не знаете, что значит быть одиноким в мои годы. Одиночество наводит на меня теперь ужасную тоску; одиночество дома, вечером, у очага… В такие часы мне кажется, что я один на земле, совсем один и окружен неведомыми опасностями, таинственными и страшными; и стена, отгораживающая меня от соседа, которого я не знаю, отдаляет его от меня так же, как от далеких звезд, видных из моего окна. Какая-то лихорадка охватывает меня, лихорадка скорби и страха, и безмолвие стен приводит меня в отчаяние. Как бесконечно, как печально безмолвие комнаты, в которой живешь один! Это безмолвие угнетает не только тело, но и душу, и каждый шорох, каждый скрип мебели заставляет содрогаться, потому что каждый звук является неожиданным в этом мрачном жилище.
Он помолчал еще немного, потом прибавил:
– Хорошо все-таки на старости лет иметь детей!
Они дошли до середины улицы Бургонь. Поэт остановился перед высоким домом, позвонил, пожал руку Дюруа и сказал ему:
– Забудьте всю эту старческую болтовню, молодой человек, и живите сообразно вашему возрасту, до свиданья!
И он исчез в темных сенях.
Дюруа продолжал свой путь с тяжелым сердцем. У него было такое чувство, словно ему показали яму, наполненную костями мертвецов, яму, в которую неминуемо придется когда-нибудь упасть и ему. Он прошептал:
– Черт возьми, должно быть, ему не очень-то весело живется. Я бы не согласился сесть в кресло первого ряда, чтобы присутствовать при смотре его мыслей, черт бы его побрал!
Остановившись, чтобы пропустить надушенную женщину, которая вышла из кареты и возвращалась домой, он глубоко, жадно вдохнул аромат вербены и ириса, пронесшийся в воздухе. Внезапно воспоминание о госпоже де Марель, которую ему предстояло увидеть завтра, охватило все его существо, и он весь затрепетал от радостной надежды.
Все улыбалось ему, жизнь встречала его ласково. Как хорошо, когда сбываются надежды!
Он заснул, опьяненный радостью, и встал рано, чтобы перед свиданием пройтись по авеню Булонского леса.
Ветер переменился, погода за ночь стала мягче, солнце грело, словно в апреле. Все любители Булонского леса вышли на прогулку в это утро, повинуясь призыву ясной и теплой погоды.
Дюруа шел медленно, упиваясь свежим воздухом, сочным, словно весенний плод. Он миновал Триумфальную арку и пошел по большой аллее, рядом с которой шла дорожка для верховой езды. Он смотрел на едущих рысью или галопом мужчин и женщин, богатых светских людей, и почти не завидовал им теперь. Почти всех их он знал по именам, знал цифру их состояний и скрытые стороны их жизни, так как его профессия сделала из него нечто вроде справочника парижских знаменитостей и скандалов.
Проезжали амазонки, стройные, затянутые в темное сукно, с высокомерным и неприступным видом, свойственным многим женщинам, когда они сидят на лошади; Дюруа забавлялся, произнося вполголоса, как читают в церквах молитвы, имена, титулы и звания любовников, которых они имели или которых им приписывали; иногда, вместо того чтобы сказать: «Барон де Танкеле… Князь де Латур-Ангеран», он бормотал: «Лесбос: Луиза Мишо из “Водевиля”… Роза Маркетен из “Оперы”…»
Эта игра очень его забавляла, словно он констатировал, что под строгой оболочкой приличий в человеке скрывается бесконечная и глубокая низость, и это сознание радовало, возбуждало и ободряло его.
Он произнес вслух:
– Толпа лицемеров!
И стал искать глазами тех наездников, о которых рассказывали самые грязные истории.
Среди них было много таких, которых подозревали в шулерстве, для которых клубы, во всяком случае, являлись крупным источником дохода, единственным и несомненно нечистым источником.
Другие, лица весьма прославившиеся, жили исключительно на средства своих жен, что было всем известно; третьи – на средства своих любовниц – так утверждали в свете. Многие платили свои долги (поступок, заслуживающий уважения), но никто не знал, где они доставали нужные для этого деньги (довольно подозрительная тайна). Здесь были финансовые дельцы, огромное состояние которых имело своим источником кражу, но которых принимали всюду, в самых аристократических домах. Были лица, пользовавшиеся таким почетом, что мелкие буржуа при встрече с ними снимали шляпу, хотя наглые спекуляции их в больших национальных предприятиях не составляли тайны ни для кого из тех, кто знал подоплеку света.
У всех этих господ был высокомерный вид, наглый взгляд, презрительная улыбка – и у тех, кто носил бакенбарды, и у тех, кто носил только усы.
Дюруа продолжал смеяться, повторяя:
– Да, нечего сказать, шайка жуликов, проходимцев!
Но вот быстро проехала прелестная открытая низенькая коляска, запряженная двумя белыми лошадками с развевающимися гривами и хвостами; ими правила молодая белокурая женщина небольшого роста – известная куртизанка; позади нее сидели два грума. Дюруа остановился. У него было желание поклониться, аплодировать этой женщине, сделавшей карьеру с помощью любви и дерзко выставляющей напоказ – здесь, в часы гулянья этих лицемерных аристократов, – кричащую роскошь, заработанную ею в постели. Быть может, он смутно чувствовал между собой и ею что-то общее, какое-то сходство натур, чувствовал, что они принадлежат к одной породе, что у них один и тот же душевный склад и что его успех будет основан на смелых действиях такого же характера.
Назад он шел медленнее, испытывая какое-то чувство удовлетворения, и явился к своей прежней любовнице немного раньше назначенного времени.
Она встретила его поцелуем, точно между ними вовсе не было разрыва, и даже на несколько минут забыла благоразумную осторожность, которая обычно удерживала ее от проявлений нежности, когда она была у себя дома. Потом сказала, целуя завитые кончики его усов:
– Ты не знаешь, милый, какое у меня огорчение. Я рассчитывала провести с тобой медовый месяц, и вдруг муж свалился мне на голову на шесть недель: он взял отпуск. Но я не хочу оставаться все шесть недель без тебя, особенно после нашей маленькой размолвки, и вот что я придумала. В понедельник ты придешь к нам обедать, я ему уже говорила о тебе. Я познакомлю тебя с ним.
Дюруа колебался, несколько смущенный: ему еще никогда не случалось встречаться лицом к лицу с человеком, женой которого он обладал. Он боялся, чтобы его не выдало что-нибудь – неловкий взгляд, слово, какая-нибудь мелочь.
Он пробормотал:
– Нет, я предпочитаю не знакомиться с твоим мужем.
Очень удивленная, стоя перед ним с широко раскрытыми, полными недоумения глазами, она настаивала:
– Да почему же? Что за чудачество! Ведь это самая обыкновенная вещь! Право, я не думала, что ты так глуп!
Он обиделся:
– Ну хорошо, я приду обедать в понедельник.
Она прибавила:
– Чтобы не возбудить подозрений, я приглашу супругов Форестье, хотя я терпеть не могу принимать у себя гостей.
До самого понедельника Дюруа совсем не думал о предстоящем свидании, но, поднимаясь по лестнице к госпоже де Марель, он почувствовал странное беспокойство – не потому, чтобы ему было неловко пожать руку мужу, есть его хлеб, пить его вино, нет, он просто боялся чего-то, сам не зная чего.
Его проводили в гостиную, и он стал ждать, как всегда. Затем дверь спальни отворилась, и он увидел высокого человека с седой бородой, с орденом в петлице, очень солидного и корректного, который подошел к нему и с изысканной вежливостью сказал:
– Моя жена много мне говорила о вас, сударь, и я очень рад с вами познакомиться.
Дюруа сделал шаг навстречу ему, стараясь придать своему лицу выражение чрезвычайной сердечности, и с преувеличенным жаром пожал протянутую ему хозяином руку. Потом сел, не зная, о чем заговорить.
Господин де Марель подбросил в камин полено и спросил:
– Вы давно занимаетесь журналистикой?
Дюруа ответил:
– Всего лишь несколько месяцев.
– Вот как! Вы быстро сделали карьеру.
– У меня есть только поэзия.
Потом, подняв голову к небу, где сияла бледная луна, он продекламировал:
И скорбно я ищу разгадки тайны вечной
В пустынных небесах, где бродит отблеск млечный.
Они дошли до моста Согласия, молча перешли его, потом прошли мимо Пале-Бурбон. Норбер де Варенн снова заговорил:
– Женитесь, мой друг, вы не знаете, что значит быть одиноким в мои годы. Одиночество наводит на меня теперь ужасную тоску; одиночество дома, вечером, у очага… В такие часы мне кажется, что я один на земле, совсем один и окружен неведомыми опасностями, таинственными и страшными; и стена, отгораживающая меня от соседа, которого я не знаю, отдаляет его от меня так же, как от далеких звезд, видных из моего окна. Какая-то лихорадка охватывает меня, лихорадка скорби и страха, и безмолвие стен приводит меня в отчаяние. Как бесконечно, как печально безмолвие комнаты, в которой живешь один! Это безмолвие угнетает не только тело, но и душу, и каждый шорох, каждый скрип мебели заставляет содрогаться, потому что каждый звук является неожиданным в этом мрачном жилище.
Он помолчал еще немного, потом прибавил:
– Хорошо все-таки на старости лет иметь детей!
Они дошли до середины улицы Бургонь. Поэт остановился перед высоким домом, позвонил, пожал руку Дюруа и сказал ему:
– Забудьте всю эту старческую болтовню, молодой человек, и живите сообразно вашему возрасту, до свиданья!
И он исчез в темных сенях.
Дюруа продолжал свой путь с тяжелым сердцем. У него было такое чувство, словно ему показали яму, наполненную костями мертвецов, яму, в которую неминуемо придется когда-нибудь упасть и ему. Он прошептал:
– Черт возьми, должно быть, ему не очень-то весело живется. Я бы не согласился сесть в кресло первого ряда, чтобы присутствовать при смотре его мыслей, черт бы его побрал!
Остановившись, чтобы пропустить надушенную женщину, которая вышла из кареты и возвращалась домой, он глубоко, жадно вдохнул аромат вербены и ириса, пронесшийся в воздухе. Внезапно воспоминание о госпоже де Марель, которую ему предстояло увидеть завтра, охватило все его существо, и он весь затрепетал от радостной надежды.
Все улыбалось ему, жизнь встречала его ласково. Как хорошо, когда сбываются надежды!
Он заснул, опьяненный радостью, и встал рано, чтобы перед свиданием пройтись по авеню Булонского леса.
Ветер переменился, погода за ночь стала мягче, солнце грело, словно в апреле. Все любители Булонского леса вышли на прогулку в это утро, повинуясь призыву ясной и теплой погоды.
Дюруа шел медленно, упиваясь свежим воздухом, сочным, словно весенний плод. Он миновал Триумфальную арку и пошел по большой аллее, рядом с которой шла дорожка для верховой езды. Он смотрел на едущих рысью или галопом мужчин и женщин, богатых светских людей, и почти не завидовал им теперь. Почти всех их он знал по именам, знал цифру их состояний и скрытые стороны их жизни, так как его профессия сделала из него нечто вроде справочника парижских знаменитостей и скандалов.
Проезжали амазонки, стройные, затянутые в темное сукно, с высокомерным и неприступным видом, свойственным многим женщинам, когда они сидят на лошади; Дюруа забавлялся, произнося вполголоса, как читают в церквах молитвы, имена, титулы и звания любовников, которых они имели или которых им приписывали; иногда, вместо того чтобы сказать: «Барон де Танкеле… Князь де Латур-Ангеран», он бормотал: «Лесбос: Луиза Мишо из “Водевиля”… Роза Маркетен из “Оперы”…»
Эта игра очень его забавляла, словно он констатировал, что под строгой оболочкой приличий в человеке скрывается бесконечная и глубокая низость, и это сознание радовало, возбуждало и ободряло его.
Он произнес вслух:
– Толпа лицемеров!
И стал искать глазами тех наездников, о которых рассказывали самые грязные истории.
Среди них было много таких, которых подозревали в шулерстве, для которых клубы, во всяком случае, являлись крупным источником дохода, единственным и несомненно нечистым источником.
Другие, лица весьма прославившиеся, жили исключительно на средства своих жен, что было всем известно; третьи – на средства своих любовниц – так утверждали в свете. Многие платили свои долги (поступок, заслуживающий уважения), но никто не знал, где они доставали нужные для этого деньги (довольно подозрительная тайна). Здесь были финансовые дельцы, огромное состояние которых имело своим источником кражу, но которых принимали всюду, в самых аристократических домах. Были лица, пользовавшиеся таким почетом, что мелкие буржуа при встрече с ними снимали шляпу, хотя наглые спекуляции их в больших национальных предприятиях не составляли тайны ни для кого из тех, кто знал подоплеку света.
У всех этих господ был высокомерный вид, наглый взгляд, презрительная улыбка – и у тех, кто носил бакенбарды, и у тех, кто носил только усы.
Дюруа продолжал смеяться, повторяя:
– Да, нечего сказать, шайка жуликов, проходимцев!
Но вот быстро проехала прелестная открытая низенькая коляска, запряженная двумя белыми лошадками с развевающимися гривами и хвостами; ими правила молодая белокурая женщина небольшого роста – известная куртизанка; позади нее сидели два грума. Дюруа остановился. У него было желание поклониться, аплодировать этой женщине, сделавшей карьеру с помощью любви и дерзко выставляющей напоказ – здесь, в часы гулянья этих лицемерных аристократов, – кричащую роскошь, заработанную ею в постели. Быть может, он смутно чувствовал между собой и ею что-то общее, какое-то сходство натур, чувствовал, что они принадлежат к одной породе, что у них один и тот же душевный склад и что его успех будет основан на смелых действиях такого же характера.
Назад он шел медленнее, испытывая какое-то чувство удовлетворения, и явился к своей прежней любовнице немного раньше назначенного времени.
Она встретила его поцелуем, точно между ними вовсе не было разрыва, и даже на несколько минут забыла благоразумную осторожность, которая обычно удерживала ее от проявлений нежности, когда она была у себя дома. Потом сказала, целуя завитые кончики его усов:
– Ты не знаешь, милый, какое у меня огорчение. Я рассчитывала провести с тобой медовый месяц, и вдруг муж свалился мне на голову на шесть недель: он взял отпуск. Но я не хочу оставаться все шесть недель без тебя, особенно после нашей маленькой размолвки, и вот что я придумала. В понедельник ты придешь к нам обедать, я ему уже говорила о тебе. Я познакомлю тебя с ним.
Дюруа колебался, несколько смущенный: ему еще никогда не случалось встречаться лицом к лицу с человеком, женой которого он обладал. Он боялся, чтобы его не выдало что-нибудь – неловкий взгляд, слово, какая-нибудь мелочь.
Он пробормотал:
– Нет, я предпочитаю не знакомиться с твоим мужем.
Очень удивленная, стоя перед ним с широко раскрытыми, полными недоумения глазами, она настаивала:
– Да почему же? Что за чудачество! Ведь это самая обыкновенная вещь! Право, я не думала, что ты так глуп!
Он обиделся:
– Ну хорошо, я приду обедать в понедельник.
Она прибавила:
– Чтобы не возбудить подозрений, я приглашу супругов Форестье, хотя я терпеть не могу принимать у себя гостей.
До самого понедельника Дюруа совсем не думал о предстоящем свидании, но, поднимаясь по лестнице к госпоже де Марель, он почувствовал странное беспокойство – не потому, чтобы ему было неловко пожать руку мужу, есть его хлеб, пить его вино, нет, он просто боялся чего-то, сам не зная чего.
Его проводили в гостиную, и он стал ждать, как всегда. Затем дверь спальни отворилась, и он увидел высокого человека с седой бородой, с орденом в петлице, очень солидного и корректного, который подошел к нему и с изысканной вежливостью сказал:
– Моя жена много мне говорила о вас, сударь, и я очень рад с вами познакомиться.
Дюруа сделал шаг навстречу ему, стараясь придать своему лицу выражение чрезвычайной сердечности, и с преувеличенным жаром пожал протянутую ему хозяином руку. Потом сел, не зная, о чем заговорить.
Господин де Марель подбросил в камин полено и спросил:
– Вы давно занимаетесь журналистикой?
Дюруа ответил:
– Всего лишь несколько месяцев.
– Вот как! Вы быстро сделали карьеру.