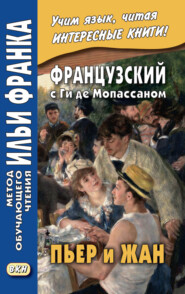По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Милый друг
Автор
Жанр
Год написания книги
1885
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но его смущал предстоявший визит к родителям. Он уже много говорил с женой по этому поводу, подготавливая ее. Все же он счел нужным предупредить ее еще раз:
– Понимаешь, это крестьяне, настоящие крестьяне, а не такие, каких изображают в оперетке.
Она засмеялась:
– Знаю. Ты мне уже достаточно говорил об этом. Ну, вставай и не мешай мне тоже вставать.
Он вскочил с постели и сказал, надевая носки:
– Нам будет очень неудобно у стариков, очень неудобно. В моей комнате стоит только одна старая кровать с соломенным тюфяком. В Кантеле не подозревают о существовании волосяных матрацев.
Она пришла в восторг:
– Тем лучше. Так приятно провести бессонную ночь… рядом… рядом с тобой… и быть разбуженной пением петухов.
Она надела свой пеньюар, свободный белый фланелевый пеньюар, который Дюруа тотчас же узнал, и при виде его им овладело неприятное чувство. Почему? Он отлично знал, что у его жены была целая дюжина таких утренних платьев. Не могла же она уничтожить весь свой гардероб и приобрести новый! И все-таки ему не хотелось, чтобы ее домашнее платье, чтобы ее ночное белье – белье любви – было тем же, что при жизни другого. Ему казалось, что мягкая, теплая ткань сохранила еще следы прикосновений Форестье.
Он подошел к окну и закурил папиросу.
Вид порта и широкой реки, покрытой легкими мачтовыми судами и приземистыми пароходами, которые с шумом разгружались на пристанях при помощи журавлей, взволновал его, хотя все это было ему хорошо знакомо.
Он вскричал:
– Черт возьми! Как это красиво!
Мадлена подбежала к окну и, положив обе руки на плечо мужа, доверчиво склонившись к нему, остановилась в восторге, пораженная, повторяя:
– Как это прекрасно! Как это прекрасно! Я и не знала, что на реке может быть столько судов!
Через час они выехали, потому что должны были завтракать у стариков, которые были предупреждены за несколько дней. Ветхий открытый экипаж потащил их, дребезжа, словно медный котел.
Они проехали вдоль длинного унылого бульвара, миновали луга, по которым струилась речка, и поехали дальше в гору.
Утомленная Мадлена дремала под горячей лаской солнца, восхитительно пригревшего ее в уголке старого экипажа; она чувствовала себя как в теплой ванне из света и воздуха полей.
Муж разбудил ее.
– Посмотри, – сказал он.
Они сделали две трети подъема и остановились в месте, славившемся своей живописностью и посещаемом всеми путешественниками.
Перед ними расстилалась огромная долина, длинная и широкая, по которой из конца в конец пробегала извилистая светлая река. Видно было, как она появлялась откуда-то издали, испещренная бесчисленными островками, и описывала дугу, не доходя до Руана. На правом берету ее раскинулся город, слабо подернутый дымкой утреннего тумана, с блестевшими на солнце крышами, с тысячью воздушных колоколен, остроконечных и тупых, хрупких, отшлифованных, словно гигантские драгоценности, с их четырехугольными и круглыми башнями, увенчанными геральдическими коронами, с каланчами и с колоколенками; а над всем этим лесом готических церквей высилась острая стрела кафедрального собора, изумительная бронзовая игла, странная, уродливая и непомерная – самая высокая в мире.
На другом берегу реки возвышались тонкие, круглые, раздувшиеся на концах трубы заводов обширного Сен-Северского предместья.
Их было еще больше, чем их сестер – колоколен, и их длинные кирпичные колонны терялись в дали полей, выплевывая в голубое небо свое черное дыхание.
Самая высокая из всех, столь же высокая, как пирамида Хеопса[30 - …столь же высокая, как пирамида Хеопса… – Высота пирамиды Хеопса – около 146 м.], занимающая по высоте второе место среди всех творений рук человеческих, почти равная своей гордой подруге – игле кафедрального собора – пожарный насос «Фудр», – казалась королевой всего этого множества трудолюбивых дымящихся заводов, так же как ее соседка была королевой остроконечной толпы священных памятников.
Дальше, позади рабочего городка, расстилался сосновый лес, и Сена, пройдя между этими двумя городами, продолжала свой путь; она огибала высокий извилистый берег, покрытый вверху лесом и местами обнажавший свой остов из белого камня, потом, описав еще раз длинную и плавную кривую линию, исчезала на горизонте. Виднелись суда, плывущие вниз и вверх по течению, увлекаемые буксирными пароходиками, которые казались маленькими, как мухи, и выпускали дым. Островки тянулись цепью или следовали один за другим на некотором расстоянии, словно неровные зерна зеленых четок.
Кучер ждал, пока путешественники закончат восхищаться. Он по опыту знал, как долго любуются этой панорамой все сорта туристов.
Когда они снова тронулись в путь, Дюруа вдруг заметил на расстоянии нескольких сот метров двоих пожилых людей, идущих по дороге к ним навстречу. Он выскочил из экипажа, воскликнув:
– Вот они! Я их узнал!
Это были двое крестьян, мужчина и женщина, которые шли неровным шагом, раскачиваясь на ходу и иногда сталкиваясь плечами. Мужчина был низенький, коренастый, с брюшком, крепкий, несмотря на свой возраст. Женщина – высокая, сухая, сгорбленная, печальная – настоящая деревенская труженица, работающая с раннего детства и не знающая, что такое смех, в противоположность мужу, который постоянно болтал и шутил, выпивая с посетителями кабачка.
Мадлена тоже вышла из экипажа и смотрела на этих бедняков со сжавшимся сердцем, с неожиданной грустью. Они не узнали своего сына в этом великолепном горожанине, и им никогда не пришло бы в голову, что эта нарядная дама в светлом платье – их невестка.
Они шли быстро, молча, навстречу ожидаемому сыну, не обращая внимания на этих городских господ, за которыми следовал экипаж.
Они прошли мимо. Жорж, смеясь, закричал:
– Здравствуй, папаша Дюруа!
Они оба разом остановились, сначала вздрогнув, затем остолбенев от изумления. Старуха первая пришла в себя и пробормотала, не двигаясь с места:
– Это ты, сынок?
– Он самый, мамаша Дюруа.
И, подойдя к ней, поцеловал ее в обе щеки звонким сыновним поцелуем. Потом он потерся щеками о щеки отца, который снял свою фуражку из черного шелка местного руанского покроя, очень высокую, похожую на шапки торговцев скотом.
Затем Жорж объявил:
– Вот моя жена.
И деревенские жители посмотрели на Мадлену. Посмотрели как на какое-то чудо, с боязливым недоверием, к которому примешивалось удовлетворенное одобрение у отца и ревнивая враждебность у матери.
Старик, веселый от природы, весь пропитанный хмелем сидра и водки, расхрабрился и спросил, лукаво подмигнув глазом:
– А поцеловать-то ее можно?
Сын ответил:
– Ну разумеется!
И Мадлене, которая чувствовала себя неловко, пришлось подставить свои щеки звучным поцелуям крестьянина, который вытер после этого губы тыльной стороной руки.
Старуха тоже поцеловала невестку, но с враждебной сдержанностью. Нет, не такую жену желала она для своего сына; она мечтала о толстой, свежей фермерше, румяной, как яблочко, и круглой, как племенная кобыла. А эта дама имела вид гулящей девки, со своими оборками и запахом мускуса. Для старухи все духи были «мускусом».
И все тронулись в путь вслед за экипажем, везшим чемоданы молодой четы.
Старик взял сына под руку и, замедлив шаг, спросил его с любопытством:
– Ну, как дела? Хороши?