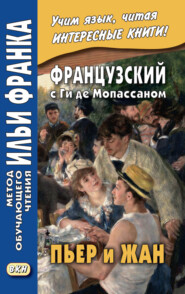По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Милый друг
Автор
Жанр
Год написания книги
1885
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он произнес грустным, но решительным тоном, с той притворной удрученностью, с какой всегда возвещают о радостных огорчениях:
– Дело в том, что я женюсь.
Она испустила вздох – вздох женщины, теряющей сознание, скорбный вздох, вырвавшийся из глубины души; потом начала прерывисто дышать, не в силах произнести ни слова.
Видя, что она не отвечает, он продолжал:
– Ты не можешь себе представить, сколько я выстрадал, прежде чем принял это решение. Но у меня нет ни положения, ни состояния. Я совсем одинок в Париже. Я нуждался в существе, которое утешало бы меня и поддерживало своими советами. Я искал подругу, союзницу – и нашел ее.
Он замолчал, надеясь, что она что-нибудь ответит, приготовившись к взрыву негодования, к оскорблениям, крикам.
Она приложила руку к сердцу, словно желая сдержать его биение, и продолжала тяжело, судорожно дышать; грудь ее трепетала, голова дрожала.
Он взял ее руку, лежавшую на ручке кресла, но она порывисто вырвала ее и прошептала словно в каком-то оцепенении:
– О боже мой!..
Он опустился перед ней на колени, не осмеливаясь, однако, коснуться ее, и, более смущенный ее молчанием, чем самой бурной вспышкой, прошептал:
– Кло, моя маленькая Кло, войди же в мое положение. Пойми меня. Для меня было бы величайшим счастьем, если б я мог жениться на тебе. Но ты ведь замужем. Что же мне остается делать? Подумай сама, подумай! Я должен занять положение в свете, а для этого мне нужно иметь свой дом. Если б ты знала!.. Бывали часы, когда мне хотелось убить твоего мужа…
Он говорил своим мягким, нежным, обольстительным голосом, звучавшим как музыка.
Он видел, как две крупные слезы выступили на глазах его любовницы, как они покатились по щекам, как вслед за ними две другие задрожали на ее ресницах.
Он шептал:
– Не плачь, Кло, не плачь, умоляю тебя! Ты разрываешь мое сердце.
Она напрягла все свои силы, желая со спокойным достоинством перенести удар, и спросила дрожащим голосом, каким говорят женщины, когда они вот-вот зарыдают:
– На ком же ты женишься?
Он помедлил секунду, но, сознавая, что это неизбежно, ответил:
– На Мадлене Форестье.
Госпожа де Марель вздрогнула всем телом, потом снова застыла в молчании и погрузилась в глубокое раздумье; казалось, она совсем забыла о том, что он стоит перед ней на коленях.
На ее ресницы беспрестанно навертывались прозрачные капли, стекавшие по щекам и появлявшиеся вновь.
Она встала. Дюруа понял, что она хочет уйти, не сказав ему ни слова, не упрекая, но и не простив его. Он почувствовал себя униженным и оскорбленным до глубины души. Желая удержать ее, он схватил руками ее платье, сжимая сквозь материю ее полные ноги, которые, как он чувствовал, сопротивлялись ему. Он умолял:
– Заклинаю тебя, не уходи так.
Тогда она посмотрела на него сверху вниз, посмотрела тем влажным, безнадежным, очаровательным и печальным взглядом, в котором выражается вся скорбь женского сердца, и прошептала:
– Мне… мне нечего сказать… Я… я ничего не могу сделать… Ты… ты прав… Ты… ты… сделал хороший выбор…
Она вырвалась резким движением и ушла; он больше не пытался удержать ее.
Оставшись один, он поднялся ошеломленный, точно его ударили по голове; потом, примирившись с обстоятельствами, прошептал:
– Ну что ж! Тем хуже или тем лучше! Во всяком случае, без сцен. И то хорошо.
С души его свалилась огромная тяжесть, и с облегчением, чувствуя себя свободным, предоставленным самому себе, готовым к новой жизни, он в каком-то опьянении начал бить кулаком в стену, точно вступая в единоборство с судьбой.
Когда госпожа Форестье спросила его: «Вы предупредили госпожу де Марель?» – он ответил спокойно: «Да, конечно».
Она испытующе посмотрела на него своим ясным взглядом.
– Это ее не расстроило?
– Нисколько. Наоборот, она нашла, что это очень хорошо.
Новость быстро распространилась. Одни изумлялись, другие уверяли, что предвидели это, третьи посмеивались, давая понять, что это их нисколько не удивляет.
Молодой человек подписывал теперь хронику – «Д. де Кантель», заметки – «Дюруа», а политические статьи, которые он изредка продолжал писать, – «Дю Руа»; большую часть дня он проводил у своей невесты, обходившейся с ним с братской фамильярностью, к которой примешивалась, однако, истинная, но тайная нежность, нечто вроде желания, скрываемого как слабость. Она решила, что свадьба совершится в полнейшей тайне в присутствии только необходимых свидетелей и что в тот же вечер они уедут в Руан. На следующий день они поедут навестить стариков-родителей журналиста и проведут у них несколько дней.
Дюруа пытался отговорить ее от этого намерения, но ему это не удалось, и в конце концов он подчинился.
10 мая новобрачные после короткого визита в мэрию – церковный обряд они сочли излишним, так как не пригласили никого, – вернулись домой, чтобы уложить свои чемоданы, и вечерний шестичасовой поезд умчал их с Сен-Лазарского вокзала в Нормандию.
Они не успели обменяться и двадцатью словами до той минуты, когда очутились вдвоем в вагоне. Почувствовав, что они уже в пути, они взглянули друг на друга и засмеялись, желая скрыть овладевшее ими смущение.
Поезд медленно выбрался из длинного Батиньольского дебаркадера и понесся по золотушной равнине, тянущейся от городских укреплений до Сены.
Дюруа и его жена время от времени обменивались несколькими незначительными словами, потом снова принимались смотреть в окно.
Когда они переехали через Аньерский мост, их охватило радостное волнение при виде реки, покрытой судами, рыбачьими лодками и яликами. Солнце, могучее майское солнце бросало косые лучи на лодки и спокойную реку, казавшуюся неподвижной, застывшей в жаре и блеске умиравшего дня. Посередине реки парусная лодка распустила с обеих сторон свои большие белые полотняные треугольники, подстерегая малейшее дуновение ветерка, и казалась большой птицей, готовой взлететь.
Дюруа прошептал:
– Я обожаю окрестности Парижа; у меня нет лучшего воспоминания, чем о здешней жареной рыбе.
Она ответила:
– А лодки! Как приятно скользить по воде в лучах заходящего солнца!
Он замолчал снова, не решаясь продолжать эти излияния, касавшиеся их прошлого, и каждый из них погрузился в свои мысли, быть может, наслаждаясь уже поэзией сожалений.
Дюруа, сидевший напротив жены, взял ее руку и медленно поцеловал.
– Когда вернемся в Париж, – сказал он, – мы будем иногда ездить обедать в Шату.
Она прошептала:
– У нас будет столько дел!