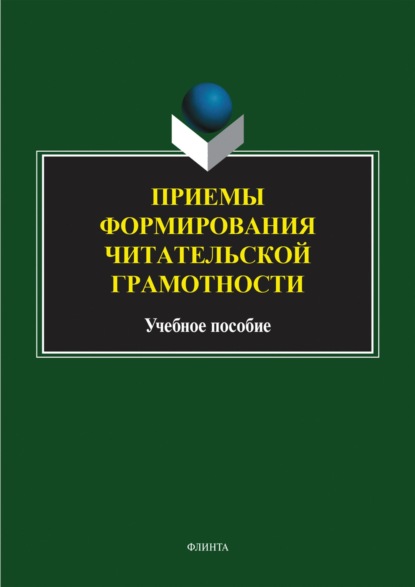По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вино для любимой. Детективный роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Эй, – окрикнул его мужчина в куртке и предложил ему свой стаканчик, – на, отхлебни глоток южного солнца.
Но бездомный отворотил нос и пренебрежительно сплюнул себе под ноги.
– Если ты пришел к змеям, не удивляйся, что тебя ужалят, – проворчал он, поглядывая исподлобья на двух дам, которые спускались по ступенькам в сопровождении чересчур услужливого мальчика.
Не смотря на то, что молоденький сомелье нес тяжеленный, позвякивающий на ходу пакет, он умудрялся еще подавать то одной даме, то другой свою высвобождающуюся руку. И те охали и ворчали, опасаясь, что дорогое вино может выскочить из пакета и разбиться от этих непродуманных движений.
Мужчина в куртке не стал дожидаться, пока дамы спустятся, и, подгоняемый в спину ветром, с нескрываемой грустью и с каким-то сожалением, продолжил свой путь, выйдя опять на Старый Арбат.
Незаконченный портрет
Кто бывал хоть однажды на старом Арбате, наверняка видел художников, сидящих на раскладных стульчиках перед мольбертами прямо под открытым небом. Среди этих работников кисти, пастели и угля встречаются настоящие таланты своего дела, которые из года в год совершенствуются в жанре портретного рисунка, анимализма и пейзажей старых московских двориков. Их первоклассные работы обычно выставляются прямо на улицах, и иной раз прохожие путают их с мировыми шедеврами, а некоторые коллекционеры даже охотятся за такими работами, считая, не без основания, все это современным пока еще недооцененным искусством.
Возможно, именно такой старичок с козлиной бородкой, в характерной для художника шапочке, отделился от скучающего сборища своих побратимов по ремеслу и обратился к проходящей мимо женщине, которая быстро катила перед собой инвалидную коляску. Очевидно, эта прохожая уже не раз бывала здесь и была знакома с уличным творчеством не понаслышке, потому что еще заранее завидев мольберты, она поспешила обогнуть их, но настойчивый художник с бородкой все же преградил ей путь, широко раскрыв, словно коршун, свои когтистые крылья-руки.
– Не пущу, Люда, не пущу! – заговорил он заплетающимся языком, слегка пошатываясь.
– Ну вот, опять нализался, – закачала покрытой головой эта, судя по платку и старомодному длинному платью, набожная женщина, с осуждением глядя на подвыпившего мастера.
Ее невзрачное вытянутое лицо казалось слегка перекошенным, сильно расстроенным, может быть, от следствия нервного паралича или другого сильного переживания, следы от которого не исчезали ни на секунду. В инвалидной коляске, которую она катила, сидела девочка на вид лет четырнадцати-пятнадцати, в легком, не по погоде одеянии. Поверх ситцевого платьица на коленях лежал шерстяной плед, из-под края которого почти безжизненно свисали худющие ножки в вязаных носочках, и именно к этим носочкам и припадал отчаянный художник. Он также пытался делать земные поклоны, ходя за больной девочкой на коленях, но в результате резких маневров коляски лишь подметал своей бороденкой брусчатку. Эта душераздирающая сцена вызывала у прохожих не совсем приятное ощущение. Они старались проходить мимо, не задерживаться, опуская при этом и отводя глаза в сторону.
– Ну, не злись ты так на меня, Люда! – горячился художник, теребя в руках огрызок черного уголька. – Пожалей дурака, на выпивку не хватает…
Его пораженные подагрой пальцы были черны от угля, и сам он с головы до ног был перепачкан, точно выскочивший черт из табакерки. Поношенный дырявый свитер и особенно одутловатое лицо, эти нездоровые мешки под глазами, покрасневший мясистый нос и жуткий разящий перегар завершали образ опустившегося человека. Но больше всего вызывала неприязнь его неухоженная взъерошенная бородка, в которую уже затесался чей-то смятый окурок.
– Ну, не злись ты… Трубы горят, на выпивку не хватает, – пробормотал он опять, показывая умоляющим взглядом на свой единственный мольберт.
– Совести у тебя не хватает, совести, – сказала невзрачная женщина, злобно сверкнув глазами, и попыталась объехать назойливого алкоголика.
– Здравствуй, здравствуй, моя хорошая… Это я Федор Кузьмич… – улыбался он тогда, обращаясь уже к самой девочке. – Ты меня не узнаешь? Мы же договаривались на один портрет еще весной…
Но девочка как будто не видела ничего перед собой. Ее головка с редкими белесыми волосиками покачивалась от движения коляски по неровной брусчатке и как-то неестественно свисала набок. Словно она не в силах была поднять ее или долго держать на шее, и художник вздрогнул, поразившись потухшим, полным безразличия взглядом измученного болезнью ребенка.
– Что с ней? – с большой тревогой воскликнул он, испуганно посмотрев на невзрачную женщину, которая немного смутившись, все же ответила ему и вынуждена была остановиться.
– С каждым разом нам все хуже и хуже, – выговорила сквозь зубы она, все еще сердясь, что ее не пропускают, и толкнула коляску прямо на него. – Пусти, Иуда, мы опаздываем.
Это обидное христопродавническое прозвище, словно нож, ударило его и без того в больную печень. Он опустил обреченно руки, едва сдерживая приступ острой боли, и, давя эту невыносимую боль, с поникшей головой поплелся к мольберту. Там он рухнул на свой раскладной стульчик и загрустил еще больше, взявшись руками за голову. Затем он бросил уголек в жестяную коробочку, в которой когда-то много лет назад лежали леденцы, и стал сворачиваться.
– Как же так, как же так! – шептал он, кусая, чтобы затушить эту жгучую боль, длинный рукав своего свитера.
Невзрачная женщина тронулась дальше, и кто-то из сердобольных прохожих даже догнал коляску и положил на шерстяной плед пару некрупных купюр. Но девочка совсем не среагировала на это, уставившись грустно куда-то себе под ноги, все также безмолвно покачивающиеся от тряски. И когда женщина, судя по всему, ее родная мать (они были похожи изгибом нижней губы), перекрестилась и забрала деньги себе, рассовывая их по карманам как-то неуверенно, словно стесняясь чего-то и стыдясь, девочка в коляске вдруг словно очнулась от глубокого сна. Так получилось, что она подняла головку, внимательно разглядывая, что вокруг происходит и узнала художника, сворачивавшего мольберт, и слабая улыбка появилась на ее измученном и усталом лице…
– Ах, Козломордый, – сказала она тихо, почти не шевеля губами. – Сегодня у Вас совсем не клеется.
Старик-художник, которого девочка назвала таким непристойным именем, совсем не обиделся на нее, а, напротив, вскочил с места и радостно засмеялся.
– Очнулась, очнулась, спящая красавица. Вот и молодец! Сегодня прекрасная погода, – сказал он, взмахивая рукой в московское небо. – Бабье лето… Свет падает идеально, и я просто не переживу, если мы упустим время… Я же обещал тебе, но твоя мама не хочет.
– И правильно делает, что не хочет, – проворчал мимо идущий прохожий, насупив брови. – Развелось тут мастеров, как мошек-дрозофил над прокисшим компотом. Рисуют всякую хрень – рожи не рожи, а черти что с крылышками. И еще это все модным словом называют – инсталляциями! Неужели, чтобы понять, что это дерьмо, в него нужно обязательно вляпаться? Настоящее искусство должно взывать к чистому и прекрасному!
– А Вы, сударь, идите своей дорогой! Ваше мнение мы не спрашиваем, – обиделся Козломордый. – Вы его не слушайте. Это происки конкурентов. Люда, а Люда, ну сто рублей жаль тебе на бутылочку красного? Мы даже можем ее распить с тобой вместе где-нибудь в переулке или у меня в каморке… А?
– Мерзавец, ноги моей больше не будет в твоем гадюшнике! – вспыхнула в гневе невзрачная женщина. – Поедем, Вика. Нам надо еще заехать в церковь, а потом к врачу. Твой Козломордый – мошенник. Не трать свое драгоценное время на бездарности, не совершай ошибки своей матери.
Но девочка не послушалась, и ее худые руки с изгрызенными ногтями хищно вцеплялись в деревянные подлокотники. Видно было, что у нее, не смотря на прогрессирующую болезнь, оставался бунтарский и упрямый характер.
– Постой, мама. Я правда хочу свой портрет. Я знаю, он рисует неважно. Его даже били тут за углом. Я слышала эту забавную историю от импрессионистов там у «Праги».
– Он рисует совсем не похоже, – нахмурилась мать, едва смягчившись.
– А зачем мне сходство, мама? Мне сейчас, напротив, хочется быть совсем непохожей на себя, даже повзрослее чуть-чуть… хотя бы на пару лет… покрасивее. А то я боюсь смотреть в зеркало, не зря все зеркала в нашем доме закрыты. Как будто кто-то умер…
На глаза невзрачной женщины навернулись слезы. Она тяжело вздохнула, не желая спорить с дочкой, и подкатила инвалидную коляску к мольберту.
– Хорошо, старый мошенник, только учти, я тебя предупреждала.
Художник заметно оживился. Он важно сел на раскладной стульчик, погладил лист на мольберте и, сдувая с него пылинки, задумался. В этой задумчивости он вытянул вперед свою козлиную бородку, словно настраиваясь на шедевр. Затем его как будто осенило, и он взял опять черный уголек из жестяной баночки и сделал первый штрих.
– Уверяю Вас, Вика, – сказал он вполне серьезно. – Если Вам не понравится, я обещаю бросить пить навсегда… Честно слово, честно.
– Ну да, – ухмыльнулась мать девочки. – Знаем мы Вашего брата.
– Мама, пожалуйста, не мешай ему настроиться… – и девочка выпрямилась в удобную позу. – Ведь, правда, что в Вашем деле важен настрой?
– Безусловно, – кивнул Козломордый, – но я, если честно, научился работать и без настроя, в совершенно стрессовых ситуациях. Ведь обязательно кто-то да скажет за спиной, что я рисую неправильно или что-то в этом роде. Народ у нас любит высказываться на чистоту. Да, сударь? – обратился он к кому-то, особенно любопытному, за своей спиной.
Действительно, там стоял мужчина в кожаной куртке и наблюдал за процессом работы.
– Что, правда, то правда. Все эти сделанные на скорую руку наброски меня не впечатляют, – признался тот, застигнутый врасплох. – Но важно, чтобы рисунок понравился, прежде всего, самой девочке.
– Ну, а ей понравится, извольте не беспокоиться! – усмехнулся мастер, как-то дерзко и размашисто сделав несколько свежих штрихов.
– Очень надеюсь. Мне даже интересно, как Вы обыграете уже начерченный ранее бокал.
И, действительно, на листке бумаге в самом центре мольберта уже были прорисованы очертания бокала на тонкой, изящной ножке, и невзрачная женщина, тоже заметив это нелепое несоответствие, сказала с укором девочке:
– Вот, видишь, Вика, у него даже чистого листа нет. Совсем допился дурень. Одни рюмки рисует. Пойдем отсюда…
– Нет, мама, останемся, – настойчиво ответила ей дочь и ее ладошки сжались в слабые кулачки. – Это мой каприз. Пусть меня он рисует и только он. К тому же, Козломордый – мастер по сюрреализму. Не так ли, Козломордый? Вас еще не били местные сюрреалисты?
– Пока еще нет, – смутился старый художник, немного испуганный своим неожиданным разоблачением. – Я никаким боком не собираюсь отнимать у них их хлеб. Я всегда слыл и буду слыть сторонником исключительно классической школы, и только сейчас в самом исключительном исключении позволю резкий разворот в сторону. Уверяю Вас, моя благородная девочка, никто даже не заметит этот полупустой бокал. Я так искусно обыграю все, что даже самый ненавистный мой непочитатель невольно склонит голову в знак уважения моему бездарно пропавшему таланту.
Затем после такой эпатажной речи он очень неприветливо посмотрел на мужчину в куртке, и в его осоловевшем взгляде без труда угадывалось «Кто Вас, болван, просил болтать лишнее?» Ведь позирующей девочке и ее матери не было видно, что рисует уличный художник: мольберт закрывал им обзор. И чтобы быстро исправиться и доказать, что девочка не ошиблась в выборе настоящего мастера, Козломордый очень удачно передал серое небо, замытое солнце, расползающееся, словно нагретое сливочное масло, по маковкам церквей, строгие контуры арбатских крыш, и даже сизых голубей, парящих над ними. Казалось, он все еще не решается приступить к самому главному – образу девочки, ради чего и было все это затеяно, и проходящие мимо люди даже задерживались, с любопытством и интересом гадая, когда же и куда же будет вставлена в общую экспозицию его несчастная натурщица.
Но как истинный гурман, самое вкусное оставляющий «на потом», он все еще медлил, и, глядя на ожившее лицо девочки, он виновато уводил свои иссохшие глаза и как будто плакал. Этот душевный невидимый плач особенно передавался в резких движениях его правой кисти, держащих огрызок уголька, и казалось, что он вот-вот выронит его из рук.
В самый разгар работы к мольберту подошла со стороны Макдональдса группа из восьми-десяти человек, преимущественно женщин в одинаковых угах. Это были, очевидно, туристки из Поднебесной. Они шумно что-то между собой обсуждали и даже поднимались на крик. У каждой из них был айфон, гоу-про и большая профессиональная камера. Гостьи столицы снимали все, что видели, и прямо на ходу выкладывали свои довольно качественные фотографии в свои китайские соцсети. Девочка в коляске улыбалась, видя, как хмурится художник, пытаясь сосредоточиться и абстрагироваться от этого шума.