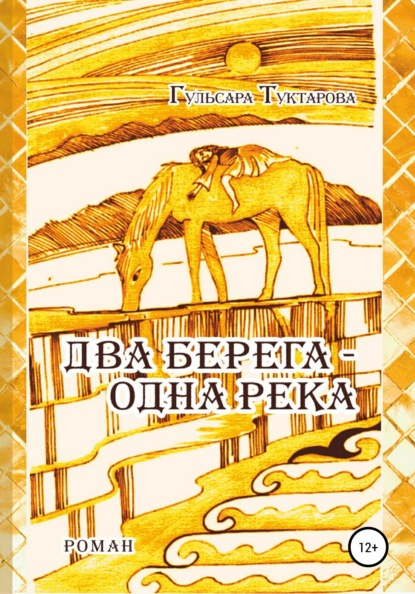По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Два берега – одна река
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И приснилось ей детство, смутным облаком – мать родная да она сама, всё идут, идут куда-то, а дойти не могут…
Глава четвертая
Разбудили Мариам петухи. Свет молочным потоком лился через мутное окно, все ещё спали. Странно и страшно было просыпаться среди чужих людей, незнакомых вещей от непонятного крика. Утро в ауле начиналось мычанием коров, ржанием и топотом табуна, щелканьем кнута пастухов. Это были родные привычные звуки, под них больная девочка могла спать ещё долго, пока бабушка не будила. Мариам стала вспоминать события последних дней.
Весь аул тронулся на летние пастбища, джайляу. [20 - Джайляу – летнее пастбище] Это был праздник для всех – оставляли зимние домики-мазанки, вытоптанные на много вёрст вокруг земли. На этот раз их аулу повезло, они пришли на низину, река была недалеко, необъятная степь была полна весеннего сочного цвета.
Мариам пошёл двенадцатый год, хотя на вид она была совсем маленькой. Обучение, прерванное болезнью и зимой, продолжалось: дочери мурзы, как и любой ногайской девушке, надо было знать женские ремесла, секреты готовки, уметь ухаживать за малышами. Акбала ждала любимую всадницу, каждый день Мариам скакала вокруг аула. Произошли события, изменившие жизнь юрта – у мурзы родился сын! Хоть и не верили многие, что очередной наследник выживет, но вопреки всем прогнозам, он жил, рос, требуя громким криком молока и заботы. По ору старухи определили – будет жить, станет властелином, батыром. И имя подобрали великое – Юсуф. Бабушка радовалась, но ласковее к снохе не стала. Мариам даже казалось, что бабушка недовольна рождению внука – попрекать килен стало нечем.
Вторым событием стало сватовство к Фатиме. Старый вдовец мангыт[21 - Мангыты – один из родов монгольского происхождения] Мансур решил породниться с родом Бекбулата и прислал сватов. Дошли ли до него слухи о чудачествах невесты, или по своей скупости или бедности, подарки для новой родни были скудные, о калыме торговались долго. Наконец, всё было решено, и началась подготовка к свадьбе. Мариам плохо помнила свадьбу старшей сестры Мадины, тогда сторожили маленькую беглянку, не выпускали далеко от юрты, лишь на проводы попала: столько верблюдов, столько нарядных всадников, что степь гудела от крика и топота.
Настала очередь Фатимы. Чтобы поддержать честь рода, Бекбулат выделил целое стадо для забоя. Под навесами множество казанов кипели с верблюжатиной, с бараниной. Из конины за три дня вперёд наделали казы[22 - казы – традиционная колбаса из конины у ряда тюркских народов]. Гости из других родов и богатые аульчане сидели в больших юртах и объедались мясом. Другие праздновали на воле, на кошмах[23 - кошма – войлочный ковёр из овечьей или верблюжьей шерсти] за большим дастарханом[24 - дастархан – скатерть.]. Отовсюду слышались песни, смех. Брал за душу кабыз[25 - кабыз – струнный смычковый музыкальный инструмент], звонкоголосо разлетаясь по степи. Тогда услышала Мариам легенду о ногайцах, запомнила её на всю жизнь от первого до последнего слова:
Время струилось золотым песком через золотые руки солнца. Замирали перед бесконечностью все желания и страдания. Как большая больная верблюдица, рыдала великая степь по погибшим детям.
Лишь одна живая душа уцелела от огнедышащего пламени судьбы и укрылась под крыльями ночи у подножья съеденной горы, у камней, истолченных в песок, на дне моря, высохшего от великого огня. Это был мальчик, не ставший воином, не обагривший руки в крови, не успевший выпить из кубка страстей, тёплый комочек человеческой плоти. И уготована ему была участь остаться у края бездны, чтобы запомнить гибель рода, а потом и самому истлеть от одиночества.
Выла синяя небесная волчица по щенятам, выхваченным в бурю от сосцов и брошенных в пучину, выла мать-волчица по прошлому и по будущему…
И сошлись два горя в утешении – нашла мать-волчица дитя человеческой утробы, а сирота племени людского – звериную любовь и заботу. В центре выжженной земли по капле сладкого молока выживала кровь, росла сила, сохранялась любовь. Горячие ветры сушили горе, нежная луна грела в холода, а тёплый снег поил жажду. И увидело однажды беспощадное солнце, что не высохло семя, должное исчезнуть, что выросло дерево на песке пустыни, и взяло назад свой гнев, стало равнодушно поднимать и опускать взор над жерновами времени, сеющего песок из бывших гор.
И народились от крылатой синей волчицы и от юного мужчины девять сыновей. Через много лун вышли они из великой пустыни к народам и стали племенем неистребимых батыров, отцами великого ногайского рода.
Отдать дочь мурзы вдовцу, похоронившему уже двух жён, небогатому, неродовитому, было обидно для древнего рода. Но выбирать не приходилось: степь слухами полнится, а про Фатиму знали многое. И не была она красавицей, которой многое простительно. Поэтому и сластили обиду большим тоем, громкими песнями и хорошим приданым.
Даже богатый свадебный убор не мог скрыть неуклюжесть Фатимы в праздничном платье: её тёмное лицо блестело от жира, узкие глаза потуплены вниз – вся в отца, только ровные высокие дуги чёрных бровей – от матери. Этот лучик от красоты матери странным образом придавал девушке милое выражение задора. Мариам подошла к сестре, чтобы проститься перед разлукой, и заплакала, прижавшись к бархату праздничной одежды.
– Ну что ты, сестра, плачешь! За меня не бойся, я там оседлаю и коня, и мужа, – весело шепнула Фатима, и карие глаза её заблестели по-прежнему лукаво под тонким покрывалом.
– Ты красивая сегодня! – ласкалась сестрёнка к невесте.
– Чёрная, как хромая лошадь Даута? – засмеялась Фатима. – Иди, приедешь скоро в гости, посмотришь на красавицу!
И уехал свадебный караван, оставив за собой заплаканных женщин. В куйме дремала спокойная невеста, удивляя своей беспечностью сопровождающих.
Через месяц их пригласили к новым родственникам, прислали богатые подарки. Все изумлялись неожиданной щедрости, а Мариам, вспомнив прощальные слова сестры, про себя смеялась: «Оседлала старика!»
Чтобы не ударить в грязь лицом, собрали сватам достойные подношения: отрезы дорогой ткани, расписную деревянную посуду, оружие, мёд. Аул проснулся затемно. Все разоделись, несмотря на жару, в праздничные тяжёлые наряды. Тщательно одевали Мариам – ещё одну будущую невесту: пусть увидят, что много золота и серебра у рода Бекбулата. Одежда понравилась Мариам, она с удовольствием гладила рукой новый каптал и платье. Неудобно было с украшениями: сережки оказались тяжёлыми и больно оттягивали мочки ушей, браслеты соскальзывали с тонких рук, пришлось их заменить. На головном уборе звенели монетки, нанизанные по краям, на вороте платья блестели нашитые золотые пластинки. Наконец, выехали. Впереди ехали мужчины, маленького Юсуфа вёз в колыбельке за собой сам отец. Мать, похудевшая, по-прежнему привлекательная, ехала недалеко от младшей дочери. Незаметно подъехала к ней, загляделась на тонкую фигурку, на ясные глаза.
– Не устанешь, джаным? – негромко спросила мать.
– Я давно научилась сидеть в седле! – с гордостью ответила дочь.
– Осторожней! Лучше бы на верблюда села, доченька!
Сама Галимэ, ехавшая на верблюде, светилась от счастья: растёт, не болеет горластый Юсуф, долгожданный сын, Мадина благоденствует в Казани. И непослушную Фатиму хорошо устроили, пусть старик, но полюбил доченьку: как богато отдарился после свадьбы! И Мариам, её вечное тайное страдание, стала почти невестой, перестала болеть. Вот и едет, качаясь на белой верблюдице, вся во блеске богатства и красоты, счастливая мать. Но не знает, что сказать дочери, не умеет с ней разговаривать.
– Анэ говорит, что нас пригласили в Казань! И меня, может, возьмут! А Вы поедете?
У Галимэ кольнуло сердце, – она не знает новостей про собственную семью, опять от неё всё скрывают, и заметила в который раз, что Мариам её никак не называет, а к бабушке обращается «анэ», называя её матерью при живой матери… Чувство радости и счастья улетучилось сразу. Подкатила обида, змейкой перехватила белую шею, стала душить…
– Хотите урюк? Он такой сладкий! Как наша Фатима из кислого старика такой сладкий урюк выжала? – Мариам подъехала близко к матери, сунула ей в руки тёплую горсть сладости.
И снова засверкало солнце, улыбнулась женщина вниманию дочери, её незаметной ласке. Одно слово «наша» опять тайно сблизила две души. Бабушка издалека ревниво наблюдала за ними. Долго терпеть она не умела, поэтому подозвала одну из женщин из свиты, велела ей передать внучке наказ вернуться на своё место. А сама со злорадством наблюдала, усевшись удобно между мягкими горбами верблюда, как униженно опускает голову нелюбимая сноха. И не заметила, что Мариам на миг коснулась руки матери горячей липкой ладонью, извиняясь за слова бабушки.
Но в девочке тоже бушевали страсти, она любила и бабушку, и мать, ей было невыносимо больно наблюдать вражду между ними. «Всё из-за меня!» – думала несчастная девочка. Откуда ей знать, что свекровь и невестка не уживаются во многих семьях, что такое соперничество ищет внешние причины, чтобы выплеснуться в колкостях, в обидных замечаниях и в злобных взглядах.
Мариам поскакала не к бабушке, а вперёд, поближе к отцу. Но её оттеснили джигиты, и всадница оказалась сбоку от каравана.
Страшно заглядывать в колодец воспоминаний… Помимо воли всплывают крики ужаса, клубы пыли, словно вихрь мчащийся по пустыне, суматоха и плач женщин, страшный клич битвы… Акбала, обезумевшая от криков, понесла всадницу в степь… Мариам, потерявшая голову, подстегивала лошадь, желая убежать подальше от смерти… А потом, одумавшись, девочка пыталась вернуться, гнала и гнала коня вперёд… Очнулась у воды, смутно помнит часы на берегу, лица незнакомых людей… В забытье ей мерещилось, что она едет, покачиваясь, на верблюде. Потом страх разбудил сознание, и девочка увидела себя среди чужих мужчин, на большой лодке, но ничем не выдала себя, стала наблюдать из-под полузакрытых век за незнакомцами. Со страхом, слушая грубые голоса, она пыталась что-то понять, но ничего не уловила из незнакомого языка. Одно было ясно – убивать её не будут. Недалеко сидел бородатый мужчина, молчаливый, но добрый, как почуяла сердцем Мариам. К нему и потянулась девочка, молила безмолвно, чтобы он защитил её. Это был Пётр. Может, и вправду, он услышал мольбу умирающей девочки, а может, и нет. Но именно он забрал её домой. Успокоившись, Мариам то впадала в забытьё, то вновь приходила в себя. И вот она проснулась в чужом доме с чужими запахами с чужими людьми. Что будет дальше?
Глава пятая
Щедрый август торопил сонное солнышко, выгоняя его на безоблачное небо, как выгоняют пастухи корову на выпас. Сначала разнежено, розово-ало, как молодайка после сладкой ночи, солнце медленно выкатилось из-за бугра, начало округляться и уменьшаться, поднимаясь всё выше и выше, потом оторвалось от матушки-земли и поплыло звонким мячиком по небу, раскаляясь на ходу. Так же и Марья, разоспавшаяся после встречи с мужем, растрёпой походила по избе, но вдруг разом подобралась, взглянув на лавку, где птенчиком свернулась чужая девочка. Подошла, пощупала, жар спал. Выдохнула «Живая!». И забегала, накидывая на крепкое тело затрапезный сарафан, побежала доить Пеструшку, на ходу схватила со стола чашку с водой, плеснула в печь – домового водица. Ставили бабы на ночь воды и хлебца охране дома, чтоб от беды уберегал. Под ровный плеск молока решала, как не осрамиться перед миром, что же делать. Встала довольная – Пеструшка не дёргалась, полный подойник молока дала! – и поплыла павой к крыльцу. На выгоне Марью уже выглядывали соседушки, не торопились бежать по домам.
– С доченькой тебя! – не выдержала криворотая жена Степана Катерина.
– Завидуешь? – одним словом припечатала Марья – года не прошло, как Катеринка дочь схоронила.
– Живая? – с беспокойством спросила подруга сердечная Марфа.
– Что с ней станется, живая, Бог спас! Аней зовут, мать ейная наша, русская, – пропела Марья. Не только для Марфиных ушей, многие услышат, тут же разнесут по селу.
С Марьей редко кто вступал в споры, она могла перекричать любую бабу, при этом могла метко сказать обидное слово, так ловко приплести прозвище, которое потом другие повторяли по любому случаю. Может, кому и хотелось поговорить про найдёнку, но промолчали. Победно вскинув смуглое лицо, Марья вернулась к дому, чтобы покормить семью. Парное молоко и хлеб – вот и завтрак.
Все утро Петр томился в ожидании, он не знал, что и думать: Марьюшка молчала. Ванятка наскоро умылся, глотнул молока и засел за столом, стараясь не показывать своё любопытство. Девочка зашевелилось, застонала.
– А ну, вставай, соня-засоня! – подскочила к лавке хозяйка, – Вставай полегоньку да иди завтракать. Ходить за тобой некому, Аня, неча тут разлёживаться!
Мужчины переглянулись. Свекровь, уже почти переступившая порог (спешила к своему хозяйству), повернулась так резко, что не удержалась и упала.
– Ноги посшибаете, скажут, что Марья перебила! Что уставились? Анна она! Рыбу-то вчера никто не приволок, опять обошли! Почто на привоз не ходил, неслух? – и понесла-понесла всё, что накипело. Но краем глаза, таки, следила за мужем: как бы ни перехватить лишку. Рывком подняла послушное тело девочки, усадила ловко за стол, почти швырнула перед ней малую чашку с молоком. Девочка боялась поднять глаза, вздрагивала от каждого выкрика Марьи, но чуткое сердце подсказало, что нет злобы в резкой речи. И бабушка всегда ворчала на всех, часто кричала, но была добрее всех на свете. Руки в кровавых мозолях почти не слушались, но Мариам ухватила крепко посуду и отпила молока. Крикливая женщина сунула под нос ей кусок темного хлеба. Кислый запах был незнаком девочке, ногайцы не ели такой хлеб. Но она откусила немного от ломтя, проглотила, не прожевав, и опять припала к молоку.
– Вот те телёнок! – прыснула вдруг Марья. И все разом за столом засмеялись.
Так стала приживаться в чужом доме, в чужом мире Мариам, которую переименовали с лёгкой руки Марьи в Аню. Ох, и непросто было петровой семье, пуще всего от призора станицы, которая глаз не спускала с «родственничков». Кабы не слыла Марья «бой-бабой», не уберечься бы им дурной молвы. Перешептывались, в хату к ним, будто бы за огоньком, забегали, в глаза заглядывали, но ничего не угадывали. Марья с криками вела хозяйство, Пётр сроду молчун, по слову жены ходит, только в работе завсегда первый – жаден до труда! Ванятка по хозяйству помощник и мачехе, и бабушке, да и к соседям всегда бежит по зову, а тут молчит, посмеивается. Не выпытать, что правда, а что Марья приплела! Общий сказ таков: мать найдёнки девкой забрали в плен, стала она женой татарина, родила девочку, а потом сбежала от мужа с приплодом, дорогой умерла.
Верилось, потому как часто, так и выходило – и в плен угоняли, и из плена бежали. Всего раз прошлись по станице татары, но помнят это и рассказывают про жуткий набег через несколько поколений. Двадцать зим назад наскочил отряд татар на малую деревеньку. Мужики, как на беду, ушли в поход за рыбой, – выследили нужное время супостаты. Увели молодых женщин, зашибли насмерть несколько человек, угнали лошадей, домашний скарб не тронули, запалили крайнюю избу, визжали и носились на взмыленных лошадях по улицам. Был среди них толмач, видом русский, он говорил резким голосом не свои слова: «Наша земля, уходите, мы придём – все село сожжём, каждого уведём в плен, идите к царю, пусть он свою землю вам даст! На чужой земле живете, чужую воду пьёте!» Вернулись мужчины, кинулись в погоню, но разве ветер догонишь! Да и далеко ли решились сунуться в страшную степь? Попадались артельщики в походе за рыбой в засады, когда выходили на берег. Почитай, в каждой семье есть увечный, а то вовсе покойник. В лесок далеко не заходили, там тоже иногда пропадали люди, больше неугомонные подростки, не слушающие запреты старших. Более не видели татар у себя, хотя слышали от соседей про набеги, видели мирных татар в городище. Говорили, что они перешли на службу к царю-батюшке, но разве можно верить слухам!
А как девочка первый раз выглянула на улицу (рядом Ваня идёт, сторожит), чуть ли не полстаницы высыпало посмотреть. Марья никогда ничего зазря не делала: загодя сшила сарафан названной дочери, искупала девчушку, косы заплела и лентой красной перевязала, лапти новые приобула да слух с вечера пустила через подружек и соседей – мол, завтра к бабушке идём конопатить избу, и Анечка попросилась помочь. А живёт свекровь за две улицы, на краю села. И время выбрала – не утро, не вечер, а ясный полдень. Тут ротозеи растаращились, почитай, ощупали глазами-то всю. Девочке сказано было идти ровно, глаз не опускать, улыбаться. Не понимала она ещё языка, поэтому несколько дней Ваня обучал её по приказу мачехи – вот так да этак, без слов. Как она выдержала прогулку, уже никто не расскажет, должно быть, солоно ей пришлось, раз ноги дрожали, ручки вспотели. Но прошлась ровнёхонько, улыбаясь. Во многом уверились односельчане – девочка не темна лицом, кто и конопушки разглядел на ровном носике, карие глаза с прищуром, но не малы, волос тёмный, но не вороной масти, рот немного большеват для худенького лица, улыбка мила и застенчива. «А брови, а брови-то какие! Глянь-ко!» На бледном лице ласточками летели чёрные брови, оттого и казалась девочка нездешней. А так – не хороша, не плоха, не русская, но не басурманка, только больно худа, тонка. По-доброму вздохнули бабы: «Тело нагуляет, здорова бы была! Натерпелась, бедняжка! Легко ли мать потерять!» Так и приняли Мариам-Анечку в Крутом Яре.
Были разные догадки, почему крикунья Марья оставила басурманку. Кто шептал, что из-за золота, но кому это золото нужно здесь? Кто думал, что позарилась на хлеб, что обещал есаул. Но хлеба так и не добавили, никто не требовал – ни Пётр, ни Марья. Жалости за Марьей сроду не водилось, пасынка хворостиной лечила от безделья, потому и разговору про жалость не было. За спиной сошлись в одном – Марья нашла работницу: Ваньке воду таскать и за скотиной ходить, а Ане уготован огород да обиход.
Глава шестая
В степи девочек готовят к смирению: часто отдают на сторону, в чужой род, где и речь может быть отлична от родной, обычаи другие, муж и родня часто пеняют, гоняют, припоминая все грехи родственников. А поводов для раздора среди кочевников всегда много: угоняют друг от друга скот, воруют невест, мало ли ещё чего водится за каждым родом. Вот и терпит бедная женщина молча все обиды, работает, не покладая рук, стараясь угодить родичам, рожает детей. Только через много лет истинная ногайка, сохранившая женское достоинство, поднимает голову, начинает руководить семьей, а, бывает, и аулом. Мужчины уходят раньше, они воины, редко кто доживает до глубокой старости, на долю старух выпадает воспитание детей, сохранение обычаев.
Мариам выросла под боком своей бабушки, многое знала из разговоров. Хоть и берегли её, больную младшую дочь мурзы, от обычных занятий девочек, но белоручкой она не была. «С тобой замуж пойду, у порога спать буду, мой птенчик! – часто шутила старуха. – Не прогонишь старую?» Мариам зарывалась в душный мех телогрейки, обнимала бабушку и смеялась счастливо: «Возьму, возьму с собой замуж!»