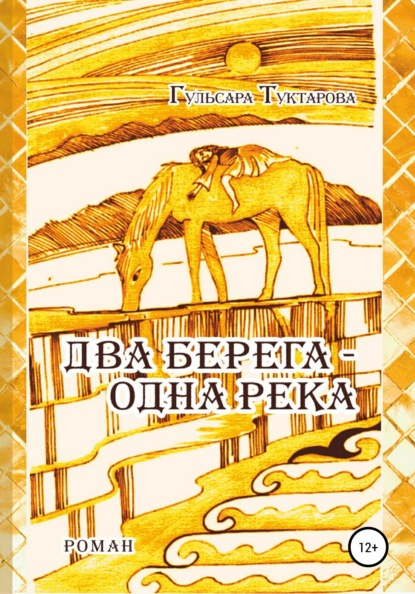По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Два берега – одна река
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот теперь она вырвана от родного имени-племени, нет рядом ни отца, ни матери, ни бабушки. А надо жить, надо выживать. И стала Мариам выживать: забыла для начала своё имя, заново родилась для земли и неба. И запретила себе вспоминать родное: от этого болит сердце, и руки опускаются. Стала учиться новому.
Марья поначалу сама не знала, что делать с Анечкой: языка не знает, слабая да худая. Кормила, как попрекала – кинет перед ней репку, кусок хлеба, словно кошке или собаке. Пётр, если был за столом, сразу складывал кулаки на стол и смотрел грозно на жену, та и остывала. Потом стала шептаться с мужем по ночам: «Не слышно ничего? Девка здорова, не болящая боле, ест-пьёт. Отец не нашёлся? Может, кто ищет пропажу?». Пётр молчит себе, вроде спит. Толкнёт его в бок, а он отворачивается.
И ничего не поделаешь! Не принимает сердце басурманку, вроде, жалко девоньку, но глаза бы не видели её. Оттого и шумит Марья куда больше прежнего. Только из гордости при золовках и при соседках хорохорится, рассказывает, что справили ещё один сарафан Анечке.
А тут застудилась сама, под дождём побегала: сено скирдовали, торопились, только наметали, как зарядил дождь. Распаренная, вымокла до нитки, на другой день слегла. Пётр с утра ушёл на лов, последние деньки краснорыбица разгуливает по Волге, артель несколько дней будет ворошить реку. Корову через силу подоила, а погнал Пеструшку в стадо Ваня. Надо бы свекровь позвать помочь по дому, бабку Соловьиху призвать, чтоб полечила травками. Но Ваньки нет дома – на берегу чистят столы, соль перебирают, солому таскают, корыта моют – на днях рыба придёт, все готовятся.
Забылась тяжёлым сном Марья, тело ломит, лежать неудобно. Проснулась от возни, прислушалась: вроде кто-то скребёт печь. Подумала на домового, он любит пошуршать. Но кто-то ходил по хате, мягко ступая по половицам. Кошек в доме не держали, не терпела их Марья. Открыла воспалённые глаза, а над ней стоит Анька, с чашкой.
– На! – Первое слово названной дочери, прежде голоса не слышала. Отпила тёплого молочка. Сладко показалось. С чего бы? Медку, значит, добавила…
Забрала девчушка пустую чашу, тряпочку ко лбу приложила мокрую. Опять провалилась в сон больная женщина. К вечеру открыла глаза, вроде легче стало. Глядь, сидит рядом басурманское дитё, опять с питьём. Отпила, а это взвар грушевый, душистый. Потом под руки Аня вывела её на улицу, сама маленькая, а под руки плечи подставила. Села на завалинке, закатным теплом греется Марья, про корову думает. Анька задевалась куда-то, Ванятка должен прибежать, сказать ему надобно, чтобы телёнка подпустил к Пеструшке, обойдётся сегодня без дойки. На задах калитка хлопнула, шаги чьи-то тяжёлые… Оглянулась и обомлела: несёт Анька полное ведро молока! Пеструшка никого кроме хозяйки не подпускала, была похожа нравом на неё, могла и боднуть, и лягнуть, а молоко даже Марье не всегда сразу отдавала.
А как девчонка полное ведро выдоила? Мало, что выдоила, а пошла процедила, по крынкам разлила, в ледник снесла, что на сливки, а в летнике на столе оставила для еды. Марья, молча, наблюдала, дивясь про себя: «Вот те и тихоня!»
Зашли в обнимку домой. Тут и увидела Марья, что дома все убрано: лавки ровно застелены рядном, по углам выметено, рухлядь сложена в дальнем углу, полы чистые.
Глава седьмая
Марья не слыла неряхой, но особо по дому чистоту наводить не старалась, ничего не валяется, да и ладно! Любила она работу на воле, не хуже мужиков вела покос, копала землю, выходила с мужем на Волгу за рыбой. Крутобёдрая, с широкими плечами, с полными сильными руками неутомимая Марья слыла «работницей». Так уважительно отзывались в селе о самых работящих женщинах. А как наденет яркий сарафан, укроется праздничным платом, глаза тёмные в ободке длинных ресниц опустит вниз, губы свои пухлые распустит маком в лёгкой улыбке – такая раскрасавица! Дивились многие – и не скажешь, что бывает злее кусачей собаки такая красота!
Немногие помнят, что неместная она, пришла с бабкой малой девонькой. Уже не привечали тогда пришлых, как раньше. Люди разные стали ходить, попрошайки всякие, до чужого добра охотники. Кормить – кормили, с собой кой-чего давали и выводили на дорогу: ищите, мол, где лучше. А эти остались, стара да мала, куда им податься… Отвели развалюху-времянку, бабы снесли туда кто посуду, кто из одёжи что. Бабка Марьина стала ходить по дворам: помогать по хозяйству бобылям, ребёнка понянчить молодым. Худая, лёгкая на ногу, неслась бабка Лукерья на помощь другим! Полюбили её в станице и за лёгкий нрав, и за весёлый характер: всегда с улыбкой да с шуткой, намяла, видно жизнь сполна, хлебнула горя по полной, оттого и радуется всему: и доброму слову, и корке чёрствого хлеба. И свой огород завела на зависть другим, с утра до ночи с внучкой копошилась на грядках. Только воду далеко было носить, всё одно справлялись. Хатёнку прибрали, побелили, березками вокруг засадили – красота! А Марья росла молчуньей, дети не любили её, за что – непонятно. Пойдут девчонки купаться, увяжется за ними Марья, чернявая, голенастая, а те её закидывают обидными словечками. Мальчишки вовсе кидались колючками репейника, норовили в волосы попасть. Но ни разу не заплакала девочка, отойдёт подальше, уставиться чёрными глазищами и молчит. Только Марфа жалела соседку, рядом жили, тайком ходила к ней играться. Но и с ней Маша не больно была разговорчива. Бабке Лукерье некогда – всегда при работе, росла девочка сама по себе. И вдруг увидели в селе – красавица вымахала за одну зиму! Зимой-то она вовсе из дому не выходила: обуть нечего, одёжи тёплой тоже нет.
Тут и приметил её Пётр. Вдовцом ходил третий год, Наталью свою похоронил. Весной дело было – видит, гоняют мальчишки девчонку по дороге, догоняют и норовят стукнуть по спине, а та уворачивается, дерётся с ними, потом убегает дальше. Добежал до свары, стукнул мальцов, пристыдил:
– Что вы изверги, девчонку бьёте? Али совесть съели, бестолочи!
– Она сама дерётся! Смотри, как исцарапала, кошка драная!
– Цыц отсюда, мошкара! Ещё увижу, кто её обижает, с яра скину!
– Пусть сама не дерётся!
Подошёл к девчонке, а та смотрит волчонком, пальцы крючком – готова вцепиться в любого.
– Ты чья будешь, девонька? Не бойсь, не обижу!
Молчит, платьишко старенькое поправляет, ноги босы, а земля не отошла ещё, холодная.
– Ноги-то отморозишь, где лапти-то растеряла? Ладно, беги домой скорей!
Убежала. День прошёл, другой, а с головы нейдёт драчунья: чья девочка? Перебрал всех, кого из детей знал, не угадал. А спросить у кого-то стыдно, скажут – выспрашивает, разговоры пойдут. Потихоньку у матери стал выведывать, кто так бедно живёт, что и лаптей старых нет, дети босые по снегу бегают. Старая завелась, три часа молола про кого что знала или слышала. Ничего не понял Пётр. А тут с утра попалась бабка Лукерья на глаза: метёт подолом улицу, несётся кому-то на помощь. И как стукнуло: внучка у неё есть малая, не та ль драчунья? Как-то через месяц проходил мимо двора Лукерьи, заглянул во двор, вроде как водицы попросить попить. Подивился огороду – все перекопано, грядки уже зеленеют тонкой линией. Выскочила из-под земли девица (хата вполовину под землей!), глаза вылупила, задыхается, дышать не может.
– Здравствуй, хозяюшка! Водицы испить дай!
Побежала в хату, а Пётр никак сообразить не может: она, не она? Та, вроде, младше была, худа, оборванна, смотрела зверёнышем, чуть ли не кусалась. И сердце тогда зашлось от жалости, всё думал, как помочь бедняжке.
Вышла с водой в ковшике, платком успела укрыть плечи. Платок не новый, но узорный, цветастый, получше старого сарафана. Пил по глоточку, исподтишка оглядывал. Это была та девочка, но куда подевался дикий взгляд? Сейчас смотрит ласково, глаза блестят, скулы высокие в румянце. И повыше будет, и постарше глядит. Поблагодарил и ушёл.
И думать потом о ней забыл. А мать ныла, всё просила и просила взять в дом Маланью, молодую вдову Иванову, что под лёд зимой ушёл. Душа у Петра к ней не лежала, помнил и любил свою Наташеньку, соловушку-певунью. Рано их поженили, детьми почти, три года жили у матери, пока дом не поставили свой. Жили дружно, справно. Ласковая, смешливая, синеокая Наталья была хорошей хозяйкой. Как забудешь такую? Слова громкого друг другу не сказали, а работали вместе как! – люди дивились, как они под стать друг другу подобрались: жёнка стройная, тоненькая, а в работе не уступала мужу. Братья Натальи родней своих стали, а мать сыном называла. А как родился Ванятка – счастливей на белом свете никого не было, наглядеться не могли друг на друга и на сыночка!
Говорят, счастье – что солнышко, улыбнется и скроется. Так и вышло. Ушёл на Волгу с рыбной артелью, весенняя путина самая богатая – рыба сама идёт в руки.
Возвращался довольный – его старшим выбрали с обозом идти, как самого дельного и ловкого. Первый из струга выскочил на берег, искал глазами свою любушку, хотел похвастаться. Тут к нему бабы подбежали, плачут, а Пётр понять ничего не может, оглядывается. Даже когда увидел чёрный обгорелый остов своего дома, и то ничего понять не мог, стоял оглушённый, никого не слышал. Братья обступили, свои и Натальи, что-то говорили, и тех не слышал. Пошёл вкруг угольев, окликая Наталью, кричал-звал во весь голос! Пытались его остановить, завести к матери, но никто совладать с ним не мог, уходил ото всех… Сына принесли, в руки давали – не брал, отталкивал… Мать в ноги валилась, хваталась за кровиночку – убегал от родной, всё ходил-звал Наталью… Водой холодной окатили – на минуту остановился, посмотрел на люд, страшно так посмотрел, и стал у каждого спрашивать: «Где Наташа?» Народ испугался, стал расходиться, а Пётр сел посередь бывшего дома и просидел целую ночь.
На похоронах был тих, даже улыбался, но молчал. Так промолчал месяц. Старший брат, Герасим, забрал Ваньку к себе, Пётр перешел в старую избу матери, жил с младшими братьями бок о бок, те его сторожили, следили, как за малым, боялись, что с собой что-то сотворит. На сына не глядел, отворачивался, даже толкал его зло, с того и убрали Ванятку от отца.
Любая рана рубцуется, заживает, любое горе забывается. Отошёл и Пётр. Первым делом забрал сына к себе, стал растить. Разом братья оженились, в один год свадьбы играли, одну весной, а другую – осенью. Тесно стало в старом доме, отстроили первым молодым хатёнку сообща, все помогали, и свои родные, и соседи. Решил Пётр уйти, младшему оставаться надо при матери. Поговорил с роднёй, поклонился людям, помощи попросил, чтоб малый домик возвести. Только на пепелище не пошёл, ближе к яру выбрал высокое место, подальше ото всех. Домик в три оконца, невысокий, осилили миром в недолгий срок. И стал жить бобылём молодой мужик. А его, статного молодца, работника хорошего, многие старые девы и вдовицы молодые за себя прочили, тропу протоптали вдоль окон, даром, что далеко ходить. И корову ищут у пустого двора, и на речку глядеть идут. То Ванятку понянчить будто забегут, пирожком угостить, то курице голову отрубить просят, за десять дворов за тем идут. Пётр не отказывает: скольких кур жизни решил, один Бог знает… А понахальнее из баб придумали купаться под яром, плещутся, в мокром исподнем бегают. До самых морозов лезли дуры в воду, визжали от холода. А зимой у вдовиц то печь не топится – дымит (печи тоже недавно стали выводить, раньше по-чёрному топили, у кого и до сей поры так водится), то дверь вывалится. И бегут не к соседям, а на яр, к Петру! И смех, и грех! И то понять можно – трудно бабе одной… А одна окаянная бабёнка при нём в прорубь сиганула, будто поскользнулась. Вытащил, куда ж деваться, а она, синяя от страха и холодной воды, хватается за него, в глаза заглядывает, и тут умудряется силки расставлять. Думала, что поймала, сейчас домой поволокёт, разденет и сушить станет… А Петруша обнял крепко, всю дорогу в лицо дышал, а привёл в избу старому Епифану, тоже бобылю. Та и не разберёт к кому попала, быстрей с себя всё скинула мокрое, голышом встала посередь избы, дрожит, как лист осиновый… А тут борода седая ей в лицо тычется, орёт что-то… Открыла зенки, а это старик толкается, тулупом укрывает. А Петра нет! Так зиму и перезимовала со стариком, болела, он отхаживал… Что меж ними было-не было, про то сказано много по селу, проходу не давали потом.
Ванятка рос улыбчивым, ласковым. Поначалу было больно узнавать синие глаза Натальины, видеть такой же золотой пушок на тельце, как у любимой. Даже вострый носик был у мальца мамин. И волосом пошёл в мать, только ходил по-отцовски цепко, был рослым не по возрасту. Потом привык, не сравнивал. Разве что кольнёт в сердце, когда Ванятка бежит к нему навстречу, не чуя ног… Тогда и нахлынет: так неслась когда-то милая Наташа…
Прошло ещё два года, за то время пожила у него одно лето Маланья, уговорила, таки, мать. Маланья вертлявая, бойкая, угодливая во всём, но полюбить он её почему-то не смог. Он и дома-то почти не был: в то лето сгоняли казаков со всех сторон строить новый сторожевой городок на Волге. Встречала молодица дома, а радости большой не было. И Ванятка гаснуть стал, почти не улыбается, худой какой-то, вниз смотрит. Понять никак не мог – с чего ребёнок чахнет? Подумал, что вытягивается, растёт. Раз вернулся по осени домой, поздно уже было, темно, никто на голос не откликнулся. Хотел к матери идти, тут кто-то заворошился на лавке, подошёл, а это Ванятка лежит. А Маланьи нет. Обнял сына, а он лёгкий, как птенчик, весь дрожит, уткнулся к нему в плечо горячим носиком и плачет… Еле нашёл огниво, – в печи-то ни уголька!, – высек огонь, огляделся: в избе грязно, холодно, чугунки пустые… Затопил печь, отыскал репы, кинул варить… А сам Ванятку с рук не спускал, согреть будто своим теплом хотел.
Через час прибежала Маланья: узнала, что вернулись станичники. Она у матери своей грелась, бросив пасынка. Так она и прежде делала: уйдет к своим, оставив голодного мальчика одного. Втайне извести хотела неродного, мешал он ей, не нужен был вовсе. Мальчик никому не жалился, даже бабушке ничего не говорил. А ему пятый годок, не умеет готовить: летом на огороде кормился морковкой да капустными листьями, до бабушки редко добежит, та ему пирожок в руки сунет, иногда молочка плеснёт. А смотреть ей за ним некогда, внуки народились от младшего, их стережёт. Другая бабушка померла уже, дядья и тётки далеко живут, у них полно своих детишек.
Маланья завертелась перед Петром, залопотала что-то… И тут в первый раз накрыло Петра, да так, что себя не помнил: такая ярость в нём клокотала, красным огнём злость закипела! Кабы не убежала Маланья из-под рук, недаром такая юркая, убил бы в горячке. Больше не возвращалась… Потом Егор её взял за себя, с ним и живёт. И решил тогда Петр не брать больше никого, чтобы до худа не дошло.
По весне Пётр стал плотничать. Пошёл по реке лес для городков, и станице перепадало, а с того и дома строить начали многие. Нравился Петру дух лесной, древесный, готов был зарыться в щепу с бородой и дышать дремучим смолистым запахом. Раз стоял Пётр на высоте, видит, девица плывёт, воду несёт, коромысло ходит на плечах… От солнца ли, от работы, но заиграло озорство в мужике, спрыгнул он рысью перед девушкой:
– Дашь напиться?
Та уставилась на него огромными глазами, зарделась маковым цветом:
– Пей, не жалко!
Припал к холодной водице, напился, но ведро отпускать не торопится – узнал внучку Лукерьину.
– Пусти! – слегка повела плечами девушка, а сама улыбается. Косы чёрные по высокой груди вниз бегут, губы припухшие, сочные, как вишенка…
– Как звать-то?
– Марьей.
– Как живёшь? Никто не обижает?
– Пусть кто попробует!
– А замуж за меня пойдёшь?
– Пойду!
– Жди сватов!
Вот и весь разговор. Целый день Пётр был сам не свой, смеялся, удивляя товарищей. Вечером пошёл к брату Герасиму, он за отца был у них, сказал, что жениться собирается. Тот крякнул, припомнил Маланью. Потом спросил, кого наметил в жёны. Узнав про Марью, крякнул в другой раз. Помолчали.
– Тебе жить, Петя, смотри, в другой раз не ошибись.
– Трудно мне одному, брат.