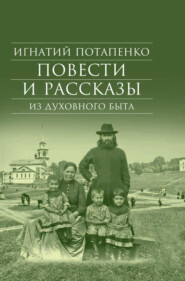По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Не герой
Год написания книги
1891
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Через минуту он уже был на улице и, не обращая внимания на дождь и ветер, ехал на плохом извозчике по направлению к Васильевскому острову, где жил издатель.
II
Павла Мелентьевича Калымова указал ему Бакланов. Эта фамилия значилась на обертках всех вышедших в свет сочинений Николая Алексеевича, потому что Калымов был его издателем. Но и помимо Бакланова это имя было хорошо известно Рачееву, так как многочисленные и разнообразные издания Калымова обязательно занимали десятую часть пространства в витринах книжных магазинов. Издательская деятельность его началась лет двадцать тому назад и с каждым годом расширялась. В последнее время он выпускал книжку за книжкой, и, что всего замечательнее, среди этих книг не было ни одной пустой, бесполезной, ненужной; и если принять во внимание, что ни одна строчка в его изданиях не выходила в свет без личного внимательного контроля самого Павла Мелентьевича, то в самом деле можно было искренно подивиться неутомимости этого человека.
Пятая линия Васильевского острова была достигнута не без больших затруднений. Несмотря на защиту зонтика, Рачеев оказался совершенно вымокшим, и, прежде чем позвонить у двери, на которой была прибита визитная карточка Калымова, он должен был минуты две постоять в подворотне, чтобы стряхнуть с себя воду. Наконец, он решился дернуть ручку звонка. Ему отперла горничная.
– Павел Мелентьевич принимает? – спросил Рачеев.
– Пожалуйте! – был ответ.
Он вошел в переднюю, в которой было темновато, и начал стаскивать с себя мокрые пальто и калоши. Горничная заперла дверь и исчезла, не обратив на него ни малейшего внимания. Он был в некотором затруднении, потому что у него не спросили фамилии. Дверь в комнату была чуть-чуть открыта, другая же маленькая дверь, которая вела, вероятно, в кухню, закрылась сама собой, едва в ней исчезла горничная.
– Прошу, войти! – послышался густой, но не очень громкий голос. Рачеев приоткрыл дверь и увидел небольшую комнату в два окна, вся меблировка которой состояла из двух стеклянных шкафов шириной во всю стену, битком набитых книгами, брошюрами, корректурными листами, рисунками, нескольких стульев и некрупного письменного стола. При появлении его на пороге из-за письменного стола поднялся высокий, сухощавый прямой человек, с низко остриженными седыми волосами и начисто выбритым лицом. На нем был короткий пиджак из простого серого сукна, из-за которого на шее и на руках выглядывали узоры малороссийской сорочки. Землистый цвет лица и некоторая припухлость щек в нижней части лица подтверждали сведение, что Калымов почти безвыходно сидит за своим столом над работой.
Хозяин вытянулся немного вперед, положив обе ладони на стол и спросил официально вежливым тоном с сухой формальной улыбкой:
– Чем могу служить?
– Простите, пожалуйста, что отнимаю у вас время, – сказал Рачеев, поклонившись, – моя фамилия Рачеев… Меня послал к вам Николай Алексеевич…
– А, я знаю, он говорил мне!.. – промолвил Калымов и на этот раз улыбнулся, как показалось Рачееву, более искренно. – Я очень рад, что вы пришли!.. Садитесь, пожалуйста! – прибавил он, протянув руку гостю.
Рачеев пододвинул стул к письменному столу и сел, хозяин тоже сел и, наклонившись вправо, придавил пуговку звонка. Когда вошла горничная, он сказал ей:
– Чаю нам!
Рачеев в это время изучал его письменный стол, на котором в образцовом порядке были разложены корректурные оттиски разных форматов и шрифтов.
– Неужели вы сами прочитываете все это? – спросил Рачеев.
– Безусловно! Конечно, у меня есть корректора, они занимаются черновой работой, но последнее слово принадлежит мне. Ни одно мое издание, не попадает под печатную машину без моей подписи, а я никогда не подписываю того, чего не прочитал внимательно…
– Но как вы успеваете?
– Успеваю потому, что только этим и занимаюсь. Это мое единственное дело, которому я посвятил всю свою жизнь. Я всегда держался мнения, что всякое дело может быть поставлено образцово, если ему отдаешься вполне. Впрочем, это не ново и во всяком деле прилагается, кроме книжного. У нас книжное дело большею частью ведут промышленники, ровно ничего в издаваемых ими книгах не понимающие и интересующиеся только сбытом… Не угодно ли вам чаю? – прибавил он, когда горничная принесла и поставила на стол два стакана чаю.
Рачеев пододвинул к себе стакан.
– Ваши издания пользуются у публики большим уважением, – сказал он, желая вызвать хозяина на дальнейшие объяснения.
– Да, и я очень дорожу этим и никогда не позволю себе сознательно потерять это уважение! – ответил Калымов. – Но не странно ли это? Не кажется ли вам это странным? Надо только, чтобы на обложке стояло: "издание Калымова", и публика охотно покупает книжку… Но что же такое Калымов? Что за имя? Ни в литературе, ни в науке, ни в искусстве такого имени никто никогда не слыхал… Имя издательское, специально издательское. А почему его уважают? Единственно потому, что я добросовестно работаю, с знанием дела и с любовью к делу. Единственно поэтому. У нас есть издательские фирмы, существующие полсотни лет и выпускающие книги целыми залпами. Целые магазины наполнены их изданиями, и издают они все: и литературу, и науку, и детские книги, и скабрезные книги – все, что хотите. Они затрачивают громадные суммы, у них переплеты стоят дороже самих книг, но одного не хватает их делу: души, потому что никто у них не любит этого дела, а все, кто при нем состоит, заинтересованы только в одном – чтобы был заработок. Ну а я – уж извините, скабрезной книги не дам своему читателю. Зачем? И так у нас довольно развращающего печатается. Я хочу не только сбыть книгу, но и увеличить охоту к книге, умножить число читателей. И слава богу, дело наше явно подвигается. Вот не так давно я издал одну очень серьезную книгу, научную, но доступно изложенную, и издал я ее в десяти тысячах экземпляров и глубоко убежден, что она вся разойдется невдолге, а лет десять тому назад я не решился бы эту самую книгу напечатать и в двух тысячах… Да, развивается наше дело, развивается!.. Дело здоровой, разумной полезной, благородной книги.
Последние слова он проговорил с искренним воодушевлением; его большие глаза, окруженные морщинками, оживились и заблистали. Так говорить мог только человек, влюбленный в свое дело и отдавший ему всю душу.
– Мне говорил Николай Алексеич, – продолжал Калымов, немного помолчав, – что вы хотели бы приобрести постоянного корреспондента насчет книг для вашей школы…
– Да, я хотел бы именно, чтобы это был не только издатель, но и человек понимающий, потому и обратился к вам, – ответил Рачеев. – Только издатель будет слать мне, без всякого толку все, что ни выходит из-под его типографского станка. Ему ведь лишь бы сбыть…
– Вам нужны детские книги?
– Да, и именно народные – детские. Это надо строго различать. Нам присылали детские книги. Ну, вот иную раскроешь и читаешь рассказ о том, как papa и maman, отправляясь в оперу, оставили детей с гувернанткой, как дети шалили и не слушались гувернантки, как вследствие этого лампа свалилась на ковер и весь дом сгорел бы, если бы в эту минуту не появился кавалергард кузен Серж и своим благоразумным вмешательством не предупредил несчастья. Ну скажите, пожалуйста, что поймут из этого крестьянские дети? Papa, maman, опера, гувернантка, кавалергард, кузен – все это для них пустые звуки, а нравоучение, которое выводится из этого, у них совсем не приложимо… Я взял, может, быть, слишком уж яркий пример. Попадаются другого рода книги, где все пропитано нравоучением, от начала до конца, чуть ли буквы не расставлены так, чтобы из них следовала мораль. Я не знаю, как городские дети, а деревенские терпеть не могут поучений и ничему из них не поучаются…
– Вы близко изучили это дело? – спросил Калымов, как показалось Рачееву, с особенным любопытством.
– О да! Я сам руковожу школой. Учитель у нас – человек дельный, и мы стараемся вести это дело сколько можно разумней. Мы думаем, что вся суть не в том, чтоб строго держаться какой-нибудь программы или системы, а в том, чтоб идти навстречу живым запросам детского ума…
– Вот, вот, вот! – радостно воскликнул Калымов. – Вы… виноват… Дмитрий Петрович, кажется? Вы, Дмитрий Петрович, для меня настоящий клад! Право! Знаете, точно нарочно судьба за долголетние труды посылает мне такого человека, какой мне нужен!.. Вы, конечно, удивлены и не понимаете, в чем дело. Я должен открыть вам кое-что из своих намерений…
Рачеев действительно не понимал, чем он мог так обрадовать Калымова, и с живым любопытством начал вслушиваться в его слова.
– Видите ли, – начал Калымов, откинувшись на спинку своего твердого дубового стула, – надо вам знать, что, когда я начинал, это дело, я имел о нем самое смутное понятие. Я был гораздо моложе, хотя уже не был молод, – мне было тридцать пять лет. До того времени я служил в одной канцелярии, но был плохим чиновником. Мешала мне одна слабость – литературный зуд. Все тянуло меня к бумаге, все хотелось создать что-нибудь и непременно напечатать. Пробовал я себя во всех жанрах. Я и стихи писал, и повести в прозе, и трагедии, и комедии, и даже философский трактат один начал, было, сочинять… Но у меня ровно ничего не выходило. Сам я был очень строг к себе и, что редко бывает, справедлив. Я сам оценивал свои творения и добросовестно находил их никуда не годными. Но не унимался; зуд, понимаете, – зуд литературный. Случилось, что я получил весьма изрядное наследство. Разумеется, я сейчас же бросил службу, которая давно уже обременяла меня, и начал метаться как угорелый. Все мои помыслы, без сомнения, вертелись около литературы, все мне хотелось предпринять что-нибудь – журнал, сборник, альманах там какой-нибудь. И само собой разумеется, чтоб иметь возможность самому печататься… Зуд, значит, еще не прошел. Не знаю, как это случилось, столкнула меня судьба с одним очень почтенным писателем-переводчиком – он как раз в это время перевел на русский язык один солидный естественнонаучный трактат. В то время естествознание у нас было модным предметом. Он и обратился ко мне: издайте, мол, мою работу. У вас, мол, деньги есть, а у меня труд, вот и соединимся. Ну что ж, дело хорошее, отчего не взяться. Принялся я за издание. Но едва я приступил к делу, как сейчас же почувствовал, что оно меня очень интересует, что это живое дело, а вовсе не такое скучное, как кажется со стороны. По мере того как я углублялся в работу, я все больше и больше привязывался к ней, книжка становилась мне близкой, дорогой, словно она была моим произведением. Я чувствовал, что эта работа дает удовлетворение той, вечно сидевшей во мне потребности, которая заставляла меня марать бумагу в напрасных попытках создать что-нибудь удобочитаемое. Мой литературный зуд исчез, как будто его и не бывало. Одним словом, я нашел свое призвание, я оказался "природным издателем", как потом любил называть меня один литератор и мой друг. Книжка, разумеется, пошла очень туго, потому что была издана без всяких соображений с потребностью рынка. Оказалось, что подобная книга, другого автора, уже была в продаже… Одним словом, я потерпел убытки, но это меня не остановило. Я нашел дело, которое меня увлекло, так что тут думать об убытках. Я стал издавать книгу за книгой. Я шел ощупью, без твердо намеченной программы, без специальных издательских знаний и соображений и… Ну, довольно вам сказать, что в течение шести лет я ухлопал три четверти моего порядочного состояния… Вы простите, что я все это вам рассказываю. Но это необходимо для того, чтобы вы могди понять дальнейшее…
– Напротив, напротив! – с живостью возразил Рачеев. – Все это очень, очень поучительно!
– Да, но зато я приобрел опыт! – продолжал Калымов. – Или, лучше сказать, я научился вести дело целесообразно. В течение пятнадцати лет, что я работаю, сверх тех шести, я уже стоял на твердой почве. Теперь я, разумеется, достиг совершенства в своем деле. Я знаю такие тонкости, которые вам могут показаться невероятными. Я основательно изучил свою публику, знаю ее требования, вкусы, даже капризы, знаю, какую книгу в данный момент ей можно предложить или, лучше сказать, навязать. Да, приходится навязывать, потому что вкус к серьезной книге у нас еще далеко не выработан… Я знаю, какую книгу какой класс читателей купит, и сообразно с этим печатаю такое или иное количество экземпляров, назначаю такую или иную цену… Поверите ли, что иная книга вовсе не пойдет, если ей назначена низкая цена… А другую приходится пускать в прямой убыток себе, дешевле ее стоимости… О, выход в свет каждой книги сопровождается тысячами мельчайших соображений. Тут играют роль и бумага, и шрифт, и формат, и цвет обложки, и во все это вникаю я сам. Книги – это мои дети, я забочусь о них, как о детях, я хочу, чтобы они выходили в свет хорошо воспитанными…
Он опять приостановился, приказал принести еще чаю и затем продолжал:
– Теперь вы видите, как из меня выработался издатель, имя которого пользуется некоторым уважением на рынке. Вы видите, что причина этого уважения заключается единственно в любви к делу. Любовь повела к изучению, изучение – к знанию. Та же любовь не допустила иного отношения к делу, кроме добросовестного, она же заставила отдаться ему всей душой. Например – мой капитал. Я смотрю на дело так, что у меня нет своего капитала. Это – капитал моих книг, моих изданий. Каждая вышедшая в свет и распроданная книга кормит следующую книгу – одну, или две, или полторы, смотря по цене, по успеху и по другим условиям. От этого так быстро возрастает количество моих изданий. Я не имею права оставлять капитал без движения; чуть я замечаю, что он накопляется, как немедленно стремлюсь облечь его в плоть и кровь, то есть превратить его в книгу. Сам же я только приказчик при моих изданиях; я получаю от них жалованье, ровно столько, сколько мне нужно на мою довольно скромную жизнь…
– А впрочем, – прибавил он, немного подумав, – не в этом, собственно, дело, и я сообщаю это вам не для того, чтобы похвастаться, а ради последующего, хотя, я думаю, не грех и похвастаться… Так видите ли в чем дело. Вот вы заговорили о книгах для народа. Признаюсь, я давно мечтаю об этом, но…
– Как мечтаете? – возразил Дмитрий Петрович. – Я видел ваши издания для народа!
– Да, есть, конечно. Но… Тем не менее, я все-таки только мечтаю. То, что мною издано, издано наугад и, по всей вероятности, с большими промахами. Видите ли, за двадцать лет моей издательской деятельности я выработал глубокое убеждение, что, издавая книгу, ты должен прежде всего знать хорошо публику, для которой издаешь. И я вам уже докладывал, что свою публику я изучил досконально, разумеется, в книгоиздательском смысле. Но деревенскую публику я совсем не знаю, и это всегда меня пугало и останавливало, Ведь эта публика совсем не та, что городская, ее требования, вкусы и запросы совсем другие, а книга, как бомба, не должна выпускаться на ветер, а должна попадать в цель. Да, это большой пробел в моей издательской деятельности, великий пробел. Я почти ничего не сделал для крестьянского читателя, а, между тем там теперь развивается спрос на книгу, и надо пользоваться этим, чтобы, удовлетворяя этому спросу, одной книгой навязать незаметно две другие и так далее. Вы не можете себе представить, как я жажду этой деятельности и как боюсь своей неопытности. Да, неопытности, несмотря на двадцать лет. Не знаю деревни и фабрики. Вот почему я и сказал, что вы для меня клад. Вы поможете мне в этом деле. Я не буду у вас просить советов и программ. Нет, это ни к чему не поведет. Я буду и здесь держаться своей системы, системы ошибок, Я буду издавать книги по своему разумению и посылать их вам, а вы присматривайтесь там на месте, как они приходятся, и, в случае чего, бракуйте беспощадно и пишите мне подробно – что и как. Таким путем я постепенно изучу все мелочи, и настанет момент, когда я не буду делать ошибок. Могу я рассчитывать на вашу помощь?
– Знаете ли что? – горячо сказал Рачеев и вдруг протянул ему руку, которую тот крепко пожал. – Вы простите меня, я в первый раз говорю с вами… Но я просто любуюсь вами!.. Это моя мечта, чтобы каждое дело, делалось с любовью. Я думаю, что тогда у нас все пойдет хорошо и мы действительно станем подвигаться вперед. Нет, не талант, не дарование вливает в дело душу, а любовь, одна только любовь, она способна породить и талант. Талантов у нас много, но дело от этого не двигается, потому что наши таланты не любят дела, а любят только самих себя. Я весь к вашим услугам, Павел Мелентьич!
– Я надеюсь, что мы еще не раз увидимся до вашего отъезда и потолкуем! – сказал Калымов.
– О, я еще надоем вам! Вы примирили меня с Петербургом! – воскликнул Рачеев. – До сих пор я здесь, в Петербурге, встречал почти только отрицательные явления, которые меня огорчали и даже нагнали на меня сплин. Но эта беседа с вами, вы не можете себе представить, как она подняла мой дух…
Рачеев простился и вышел. Дождь перестал лить, но в воздухе еще носились мелкие крупинки влаги. Цвет неба, однако же, не обещал ничего утешительного. Каждую минуту можно было ожидать, что зарядит опять дождь. Рачеев выбрал извозчика получше и поехал прямо домой.
Уже вечерело. На Невском зажгли электрические фонари, и в магазинах замелькали огни. Несмотря на еще не вполне прекратившийся дождь и сырость, пропитывавшую воздух, Невский имел обычный вид – веселый, пестрый, с толпою зевак, на каждом шагу обгоняемых деловыми людьми.
Приехав домой, Рачеев нашел у себя на столе два письма. Одно было доставлено посыльным и оказалось от Ползикова. Антон Макарович писал:
"Понимаю, что мое решение могло показаться тебе злой шуткой. Но я еще хорошенько подумал и нисколько не изменил его. Прошу тебя, поступи так, как я сказал. Передай, что согласен и буду ждать через неделю во вторник, часам к 12. Твой А. Ползиков".
Другое письмо пришло почтой, и в почерке адреса Рачеев нашел что-то знакомое. Этот почерк он где-то видел уже. Он раскрыл конверт. В письме значилось:
"Что же вы, Дмитрий Петрович, забыли Николаевскую улицу? Это нехорошо. Ведь вы все-таки еще остаетесь для меня сфинксом. Я очень любопытна. А впрочем, это не то. Мне просто будет приятно видеть вас у себя чаще. Здоровы ли вы? Е. В.".
Это последнее письмо Дмитрий Петрович прочитал два раза и, медленно сложив его вчетверо, положил в боковой карман сюртука. Он подумал с улыбкой: "Все письма от женщин я покажу Саше; надо их хранить". И тут же решил сегодня же вечером отправиться к Высоцкой.
III