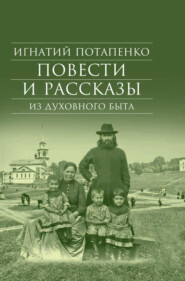По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Не герой
Год написания книги
1891
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он направился к Зимнему дворцу, а оттуда пошел по набережной, надеясь рассеять тяжелое впечатление от дружеской беседы.
VIII
Он остановился против островка Петропавловской крепости и окинул взглядом Неву. Вид движущихся во все стороны судов, как казалось, ежеминутно готовых наскочить друг на друга, несколько развлек его. Дул ветер снизу, Нева колыхалась. Он отыскал лодку и сел в нее, чтобы прокатиться вдоль по Неве. Лодка поплыла вниз и на пути по ту и другую сторону реки попадались все знакомые здания. Ничто не изменилось, все стояло на своих старых местах и смотрело по-прежнему прилично и в то же время величественно. Но ничто новое, как бы оно ни было оригинально и великолепно, не может спорить с старым в глазах человека, семь лет отсутствовавшего. В старом именно то и нравится, даже трогает, что оно осталось неизменным, а когда вдруг в чем-нибудь встретится перемена, то это даже как будто наносит обиду. Что для него это здание биржи с возвышающимися против него колоннами? Само собою разумеется, что никогда на биржу он не ходил и делами ее не интересовался. А между тем их вид и то, что биржа осталась на своем прежнем месте, радует его. Вот Александровский сквер с памятником Петру, Адмиралтейство, оставшееся верным своему белому цвету, сенат с синодом, в осанке которых ничто ни на йоту не изменилось. Все это он рассматривает глазом спокойного наблюдателя, с приятным волнением, не задевающим его глубоко, но достаточным, чтобы отвлечь его внимание от мучительных мыслей по поводу «дружеской беседы».
Но вот он повернул лицо вправо, и сердце его дрогнуло и учащенно забилось, прежде чем он успел вполне ясно ориентироваться. Да, вот и оно – это здание, в котором каждый уголок знаком ему так же хорошо, как в его собственной квартире. И оно осталось таким же, как было – и не семь, а пятнадцать лет тому назад, когда он восемнадцатилетним юношей впервые вошел в него с смирением и вместе с восторгом, с трепетно замиравшим сердцем. Так же оно длинно и неказисто на вид, такого же грязновато-кирпичного цвета, и, конечно, теперь, как и тогда, приезжие новички, бродя вокруг него, спрашивают прохожих: "Где же университет?", и когда узнают, что это именно он и есть, то изумляются, потому что из своего захолустного далека представляли себе храм науки непременно высоким, величественным зданием, вершиной своей упирающимся в самое небо.
Здесь Рачеев велел лодочнику причалить к берегу и отпустил его. Ему захотелось обойти университетское здание кругом, пройти через двор от одних ворот до других и посмотреть, покажется ли ему этот двор и теперь таким необычайно длинным, каким казался тогда. И по мере того, как он шаг за шагом двигался по университетской линии, воспоминания все больше и больше овладевали им. И несмотря на то, что в этих юношеских воспоминаниях все дышало такой чистотой и освещалось таким ясным светим, он почему-то ощущал тревогу. Словно за этими милыми картинами наивных бескорыстных увлечений, беспокойного искания правды, пламенных порывов к свету, святых заблуждений незримо скрывалось что-то ядовитое, грозившее встать перед ним во весь свой рост потом, когда пройдут мимо эти картины, и разом отравить все сладкие воспоминания. Что же это? Он остановился и думал над этим вопросом. И в его воображении встал словно окутанный туманом образ, который становился все яснее и яснее… Ползиков! Да, это он до сих пор преследует его, он – сегодняшний Ползиков, который так не похож на того высокого безусого юношу, с которым они вместе приехали из провинции и вместе же робкими шагами вошли под крышу этого здания с набережной, чтобы подать прошения. То был юноша с высоким лбом, из-под которого строго, но в то же время и чуть-чуть насмешливо смотрели на божий мир умные маленькие глазки. Насмешка в них тогда еще была скрыта, потом, несколько позже, она стала яснее проявляться в его взглядах и речах, затем стала преобладать во всех его действиях, постепенно насыщаясь ядом, но никогда не переставала быть благородной и всегда направлялась на те предметы, над которыми стоило язвительно смеяться. Должно быть, все это шло постепенно и развивалось теми путями, которые Рачееву не были известны. И теперь эта "честная" насмешка превратилась в унизительное презрение к самому себе и ко всему божьему миру…
Да, было много глупого в тех беспочвенных увлечениях, в страстном перебегании от одной святейшей точки к другой, когда каждую случайно вылетевшую из какой-нибудь дымовой трубы искру принимали за солнце… Было много крика, взвинченности, театральности, но всем этим руководило страстное стремление во что бы то ни стало найти истину, попасть на правильный путь. Неужели же, думал Рачеев, и все здесь так же изменилось, как изменился Ползиков?
Нет, не может этого быть. Почему он так думает и что за мрачные мысли? Ползиков виноват в этом настроении! Ведь тогда, в университетские годы, Ползиков был душою кружка, или, лучше сказать, умом его, но умом пылким, решительным и прямым. Кружок усердно занимался чтением, рефератами, обсуждением, спорами – жаркими, бесконечными спорами, которые дома тянулись до утра, возобновлялись при случайной встрече и переносились даже куда-нибудь в ресторан, где за рюмкой вина приобретали еще более страстный колорит. И во всем этом голос Ползикова звучал громче всех, и никого с таким вниманием не слушали, как его… Он пользовался авторитетом, но не потому, чтобы он был умнее других, усерднее, начитаннее; это был скорее нравственный авторитет, потому что никто не высказывал своих взглядов с такой твердостью, с такой крепкой, сознательной убежденностью, никто не смеялся так над малодушием и вилянием из стороны в сторону… Казалось, твердость и неотступность этого человека гарантированы на всю жизнь. Каким же образом Ползиков дошел до того положения, в котором он сейчас его видел? И один ли Ползиков? Быть может, здесь господствует такая линия и это считается в порядке вещей?
Рачееву захотелось узнать это поскорее, до того казалось ему это важным и до такой степени еще и теперь было сильно впечатление недавней сцены, что он готов был сегодня вторично пойти к Баклановым и завести об этом речь.
Он вернулся обратно, перешел Неву Дворцовым мостом и сел в вагон конки. Он поместился на империале и смотрел оттуда вниз на движущуюся толпу. Был четвертый час; на Невском было много солнца; петербуржцы гуляли. Когда вагон дошел до Литейного, Рачееву показалось, что какая-то знакомая фигура, размахивая палкой, переходит через Невский по направлению к вокзалу, лавируя среди массы столпившихся здесь извозчичьих экипажей. Присмотревшись, он узнал Бакланова. "Куда это он? Уж не ко мне ли?" – мелькнуло у него в голове. Он торопливо сошел вниз и догнал Николая Алексеевича.
– Ты куда? – спросил он, схватив приятеля за рукав.
– А ты откуда? – в свою очередь спросил, улыбаясь, Бакланов. – Я думал, что ты с дороги завалился спать и никак не ожидал, что идя к тебе, рискую не застать дома.
– Я представлялся городу Петербургу! – ответил Рачеев. – Какой тут сон, когда у вас такие вещи делаются!.. Я рад, что встретил тебя.
– Какие такие вещи?.
– Я встретил Антона Макарыча и просидел с ним часа полтора в Малоярославце! – сказал Рачеев вместо прямого ответа.
– А-а! Да, это другое дело! Встреча поучительная.
– Эта встреча расстроила меня и навела на самые дурные мысли.
– Вот это напрасно, Дмитрий Петрович. Если ты здесь по поводу каждой пакости будешь расстраиваться, то тебя не хватит на все. Впрочем, это понятно, ты свежий человек, свеженькие вообще впечатлительны по этой части. Чуть что, они сейчас расстраиваются. А мы, коренные петербуржцы, так свыклись с подобными сюрпризами, что не обращаем на них внимания. У нас нервы притупились.
– Как ты странно говоришь! Как же вы можете правильно относиться к явлениям и оценивать их – вы, стоящие наверху и руководящие общественным мнением, когда у вас нервы притупились?
Бакланов опять улыбнулся.
– Ах, Дмитрий Петрович! Любо мне глядеть на тебя, просто любо! – воскликнул он, взяв приятеля за руку. – Ты напоминаешь мне только что пойманную птичку, которую посадили в роскошную просторную клетку. Рядом с ней сидит на жердочке другая, которая много лет уже провела в клетке. И вот эта-то другая преспокойно себе клюет зернышки и купается в чашке с водой, весело перелетает с места на место и даже песни поет. А та ежится и хмурится, вздрагивает при каждом звуке и не понимает, как это можно летать не на просторе полей, а в клетке, хотя бы и роскошной и просторной, купаться не в ручье, а в какой-то чашке да еще песни петь… Но пройдут дни, недели, месяцы, явится голод и жажда, потребность расправить крылья, и станет она и летать, и есть, и пить, и песни петь, а там, наконец, будет находить все это естественным… Не дай бог тебе этого, Дмитрий Петрович; поживи ты в нашей клетке малое время да и лети себе на свои вольные поля… Да, так ты спрашиваешь: как же мы можем правильно относиться к явлениям и оценивать их, когда у нас нервы притуплены? Да как тебе сказать? Опять же прибегну к сравнению, – уж ты извини, это у меня такая дурная привычка беллетристическая. Возьми ты русского человека, коренного, который всю жизнь говорил по-русски, говорил правильно, хотя никогда не изучал грамматических правил. И вот он слышит, как говорит по-русски иностранец, коверкающий слова. Всякая неправильность коробит его, потому что он чувствует ее, эту неправильность, всем своим нутром чувствует. И совсем он не может сказать и доказать, почему это правильно, а то неправильно, но, повторяю, он это чувствует, ибо от колыбели всосал в себя родной язык со всеми его формами и причудами. Теперь возьми ты истого классика, добродетельного учителя латинского языка. Предположи, что он священнодействует, учиняя экзамен. И вот бледный и дрожащий ученик делает ошибку, именно – после глагола loquor ставит сослагательное наклонение, тогда как полагается accusativus cum infinitifo. Его тоже коробит это, но он не чувствует нутром, а знает это головой. Знает он правила, которые изучил, твердо изучил, и видит, что это противоречит правилу такому-то, стоящему в параграфе таком-то, а посему и надлежит ставить единицу. Извини за длинное сравнение, но ты понимаешь разницу? Вот так и мы с тобой: ты чувствуешь, своими свежими нервами чувствуешь, когда перед тобой что-нибудь возмутительное совершается, а мы знаем на основании наших принципов, которых мы себе прикопили достаточное количество, что это возмутительно и что тут надлежит протестовать… Ну, разумеется, это не вполне так; нет у нас еще полной выработки, и бывают случаи, что и мы тоже нутром возмущаемся… Но линия такая потянулась, что, пожалуй, к этому придет… Так о чем, бишь, мы говорили? О Ползикове? Да, да!.. Я тебе скажу, что Ползиков еще довольно отрадное явление…
– Но что же тут отрадного? Помилуй бог!..
– А то, что он все же бичует себя… Все же у него есть бог, только он спрятал его куда-то далеко-далеко. А то, брат, есть у нас такие, у которых бога никогда и не было. Люди эти так уж и родились с пустым местом в груди, никогда ничего святого там не ощущали, и уж эти, брат, действительно во всякое время дня и ночи готовы на все: и продать, и предать, и утопить, и зарезать… Ползиков только себя продал и предал, если хочешь… но ближнего он не продаст и не предаст, за это я могу головой поручиться… Ох, да что, брат, Дмитрий Петрович, – прибавил вдруг Бакланов с каким-то оттенком горечи и при этом громко вздохнул. – Ползиков, конечно, явление, так сказать, откровенно некрасивое, но у многих из нас, во всем въяве действующих, так сказать, корректно, в глубине души сидит свинья… Когда-нибудь, в добрую минуту, я тебе покаюсь, и ты увидишь, что это за зверь… Бросим это… И домой не ходи… Пройдемся к Пескам, что ли… На меня тоже какая-то меланхолия наступает… Да послушай, Дмитрий Петрович, что это с тобой сталось? Сегодня утром, когда ты приехал и мы с тобой сидели в номере, ты произвел на меня впечатление такого молодца, что я тебе позавидовал, а теперь поди как разнервничался, что и на меня какое-то поветрие нагнал…
– Погоди, Николай Алексеич, погоди… Дай освоиться, в себя прийти… Homo sum et nihil humanum, знаешь, как там где-то сказано, mihi alienum esse puto… [3 - Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо(искаж. лат.).] И уж как себе там хочешь, а сейчас не могу стать молодцом, как это ты называешь… Нет, нет, воспоминания одолели… Ну, пойдем Лиговкой, что ли, к Таврическому саду… Ведь правда же это, что мы втроем – я, ты и Ползиков – прибыли сюда из провинции с самыми чистыми сердцами, с самыми бескорыстными намерениями. Помнишь ты это время?
– Ну, как не помнить? Чудное время!.. – с искренним увлечением воскликнул Бакланов.
– И возьми ты это: мы с тобой были материально обеспечены; я даже очень хорошо, ты – как-никак, а все же ни в чем не нуждался. Так что наша чистота до известной степени может быть отнесена на счет душевного спокойствия за будущее… Но Ползиков был беден, отец его – скромный чиновник контрольной палаты в губернии, – много ли мог дать ему? – ему едва-едва на проезд хватало, теплой одежды не было у него… А какими огненно-верующими глазами смотрел он в будущее?! Куда нам с тобой! А потом, потом, когда он сделался писателем-бойцом, разве не он зло смеялся над нашим тогдашним бессилием, самобичеванием и бесплодным исканием дороги?.. "Эх вы – барчуки, барчуки! – кричал он. – Ходите вы вокруг леса, да все дороги ищете, да чтобы дорога была ровная да хорошо протоптанная… А вы без дороги идите, напролом, да грудью проложите-ка тропинку, а мы вам спасибо скажем…" Вот что он говорил тогда, и стыдно нам было, мне по крайней мере, и может быть ему-то его правдивой насмешке я и обязан своим душевным равновесием… А теперь… Что же это такое?
– Многое тут было причиной, Дмитрий Петрович, – ответил Бакланов, – а главное – столица. Не будь это в столице с ее нервы развинчивающею атмосферой, пропитанной жгучими, ядовитыми и манящими к себе удовольствиями и комфортом, быть может и Зоя Федоровна… ты знаешь про нее? (Рачеев кивнул головой). Да, так и она, быть может, призадумалась бы попристальней над своим дурацким поступком. А ведь с этого у него началось. Знаешь, когда человек чувствует себя лично несчастным, то он многое себе прощает. А тут ему все как-то не везло по части литературной работы… А подспорья в виде ренты, как у нас с тобой, не было… Комфорт не мозолил глаза… Ну, словом, тут все как-то смешалось спуталось… Бросим, бросим эту тему, Дмитрий Петрович… Я просто боюсь ее… Это поведет меня к излияниям, которые меня окончательно расстроят. Их отложим на после…
– Бросим, бросим, коли ты так хочешь!.. – промолвил почти с досадой Рачеев. Ему не нравилась в приятеле эта боязнь тяжелых тем и как будто сознательное недоговариванье чего-то. Да и сам он начинал явственно ощущать в душе какую-то горечь от всех этих сцен и разговоров. Припоминая все, что он видел и слышал за этот день, он убеждался, что самое здоровое впечатление произвели на него женщины. Перед ним рисовался образ девушки с золотисто-рыжими волосами, скромной, выдержанной, должно быть, ограниченной, но не глупой, рассудительной и симпатичной. Но этот образ как-то незаметно и мягко тускнел, когда в воображении его раздавался звонкий, открытый смех Катерины Сергеевны и живой непрерывный каскад ее речей – кокетливых и остроумных; припомнилось ее оживленное красивое лицо, румяные от волнения щеки и озаренные умом глаза. "Почему Ползиков назвал ее психопаткой?" – думалось ему. Напротив, Рачееву, в том счастливом настроении, в каком он застал ее, она казалась вполне нормальной, здоровой женщиной.
– Послушай, Дмитрий Петрович, – сказал Бакланов после довольно продолжительного молчания, – я к тебе шел не без дела…
– Я к твоим услугам, – машинально произнес Рачеев, еще погруженный в свои думы.
– Давеча я говорил тебе об одной интересной, даже, если хочешь, замечательной женщине, Евгении Константиновне Высоцкой.
– Ах, да, да! Должно быть, это в самом деле нечто удивительное, коли о ней все так много говорят. Я еще всего только несколько часов в Петербурге, а уже успел наслышаться о ней чудес: и от тебя, и от Катерины Сергеевны, и от Ползикова…
– Как? И Ползиков упоминал о ней? – с удивлением спросил Бакланов.
– Да, и в очень возвышенных выражениях…
– Гм… Да… В трезвом виде он ее бранит и смотрит на нее исподлобья, но я всегда подозревал, что в глубине души он готов целовать ее ноги… Так дело вот в чем. Надо тебе знать, что я еще вчера, тотчас по получении твоей телеграммы, сообщил ей о твоем приезде. Она очень, очень заинтересовалась тобой как настоящим "делателем нивы".
– Ну вот, ты уже, по обыкновению, сочинил целую поэму!
– Нимало. Сказал сущую правду… И вот я сейчас получил от нее записку. Прочитай, так как она и тебя касается…
Он передал Рачееву надорванный конверт из толстой шероховатой бумаги, с надписью на нем твердым, красивым и необыкновенно энергическим почерком: "Николаю Алексеевичу Бакланову". Бумага была такая же, и Рачеев тут же мог констатировать, что от нее не несет никакими духами. Письмо было написано тем же почерком и заключалось в следующем:
"В пятницу вечером у меня соберутся добрые и недобрые друзья, наши общие знакомые. Будет приятно видеть Вас, Николай Алексеевич. Пожалуйста, приведите Вашего вновь объявившегося друга, Рачеева, о котором вы насказали мне столько чудес. Жду вас не иначе как с ним. Е. Высоцкая".
– Это значит, мы с того и начнем, что будем рассматривать друг друга как чудо!..
Бакланов рассмеялся.
– Это уж ваше дело! – сказал он. – Так идем? В пятницу?
– Да отчего же не пойти? Я вообще буду охотно ходить туда, где людно!..
Бакланов проводил его до Северной гостиницы, но не зашел, потому что был близок обеденный час, а он никоим образом не хотел испортить сегодняшнее счастливое настроение Катерины Сергеевны. Рачеев же отказался обедать, потому что, наконец, почувствовал усталость. Расставшись с приятелем, он поднялся наверх, разделся и улегся в постель. Ползиков долго мешал ему уснуть, но усталость-таки взяла свое. Он заснул, но не тем крепким сном, без видений, каким он спал у себя дома всегда после здорово проведенного дня, а нервным, тревожным сном, наполнившим его голову чудовищными картинами и доставлявшим ему больше мучения, чем отдыха. То ему чудилось, что он едет на лодке по Неве, и все здания, которые он видел днем молчаливыми и приличными, вдруг заговорили, закричали, загрозили ему; но это ему было бы все равно, если бы вон то невысокое длинное здание кирпичного цвета не приняло участия в этом общем безобразном хоре. А оно волновалось больше всех, и какой-то дикий насмешливый хохот раздавался из всех его окон и щелей, и в этом хохоте различал он слова, которые как топор рубили его по сердцу: "Ах ты-и! Вишь, чего захотел! Ха, ха, ха! Тоже… отыскался! Ха, ха, ха! Погоди, то ли еще будет!" То вдруг в комнату к нему входил Ползиков. Прямой, статный, высокий, здоровый и в то же время сгорбленный, хилый, шатающийся, пьяный, и лицо у него было какое-то двойное – то безусое, хорошее, честное лицо – и это: полинявшее, осунувшееся, жалкое. Будто на облаках проносились над его головой женщины – Лиза с двумя тяжелыми золотистыми косами смотрела на него строго и рассудительно; Катерина Сергеевна чему-то весело смеялась, а вот и она – "чудо, явление, эпоха" – величественная стройная женщина с властным, всепокоряющим взглядом и со знаменем в руке. Но что там написано на этом знамени? Ничего разобрать нельзя. А может, и ничего не написано. Это – Высоцкая; без сомнения, это она, потому что и Ползиков стоит внизу и шепчет: "Божество! Но она меня презирает!" Рачеев вскочил с постели и схватился обеими руками за голову. "Нет, – подумал он, – должно быть, здесь в самом деле воздух отравлен!" Он зажег свечу; было уже за полночь. Он открыл форточку, умылся холодной водой и, значительно успокоившись, опять лег.
Он лежала закрытыми глазами, и на этот раз в его бодрствующем воображении рисовалась другая картина. Молодая женщина, с лицом, дышащим той здоровой, открытой, ясной красотой, которая способна разбудить в груди только здоровые чувства, доверчиво смотрит ему в глаза и говорит шутливо и любовно: "Гляди, Митюша, не закути там, жену с дочкой не позабудь!" Тут и малютка с румяными щечками и веселыми глазками жмется к нему, ласкается и тянется ручонками к его бороде. Вдали синеет лес, деревья тихо шелестят последними осенними листьями. Ручей с шумом сбегает по отлогому скату. Воздух чистый, ясный, здоровый… И его незаметно охватывает то ощущение душевного равновесия, которое он как-то растерял в течение этого дня.
Рачеев уснул и на этот раз проспал спокойно до утра.
IX
В пятницу с утра Рачеев распределил свой день следующим образом: до обеда просижу в читальне и пересмотрю все журналы и газеты, какие окажутся в наличности, обедаю у Баклановых, а оттуда поедем к новоявленному чуду – к госпоже Высоцкой. По всей вероятности, все это так утомит меня, что этим последним визитом и придется закончить день. И он вышел из гостиницы для того, чтобы выполнить свою программу. Сидя в захолустье, он выписывал и внимательно перечитывал газеты и журналы, но только те, которые были ему по душе. Когда выходило в свет новое издание, он смотрел на имена участвовавших в нем и по этим именам определял, стоит ли выписать; от многого из того, что прежде приходилось ему по душе, пришлось отказаться, но зато в его домашней читальне появились кой-какие новые названия. Он понимал, что такое чтение было одностороннее, но выписывать все, что издавалось в столицах, у него не было средств. Одно время он получал «Заветное слово», как он объяснял себе это, «для противовеса и для того чтобы не позабыть о существовании оборотной стороны медали», но очень скоро он сделал наблюдение, что чтение этой газеты дурно влияет на печень, и отказался от нее, оставшись, таким образом, без «противовеса». Этим и объясняется его изумление, когда он узнал, что Ползиков сотрудничает в «Заветном слове».
Теперь, так как он задался целью в этот свой приезд в Петербург всесторонне ознакомиться с общественной жизнью "главного города Российской империи", с господствующими в нем умственными и нравственными течениями, в равной степени уделяя свое внимание добру и злу, – он дал себе урок добросовестно перечитать газеты и журналы всех направлений и фасонов.
Но его разочарование было велико, когда на Литейном, близ Невского, он не нашел и признаков читальни, которую прежде довольно усердно посещал. "Должно быть, перешла в другое место!" – подумал он и стал расспрашивать у дворников и швейцаров, но те ничего не знали про читальню и даже не помнили ее. Тогда он зашел в две-три попавшиеся по дороге библиотеки для чтения и там ему единодушно выяснили, что в Петербурге вовсе нет такого учреждения, что "главный город Российской империи" довольно счастливо обходится без читальни. Ему посоветовали зайти в Публичную библиотеку, где газеты выдаются тогда, когда они утратили уже смысл, или в портерную (указали адрес), где имеются "все газеты". Но он никуда не пошел, а направился домой в дурном настроении духа, как человек, начавший день неудачей.
Когда он вошел в подъезд гостиницы, ему подали письмо в маленьком конвертике, без марки. Адрес был точный: «Дмитрию Петровичу Рачееву, Северная гостиница». Почерк совершенно незнакомый, растяжистый, неровный, по-видимому, дамский. Он опустил письмо в карман и, не торопясь, поднялся наверх, и только когда вошел в номер, снял и повесил на крючок пальто, он распечатал конверт. От письма он не ждал ничего интересного, и это он почти решил окончательно, когда увидел, что там не стояло никакой подписи. «Кажется, во мне нет ничего такого, что располагало бы к маскарадным приглашениям», – подумал он и начал читать письмо. Там было написано тем же растяжистым и неровным почерком: