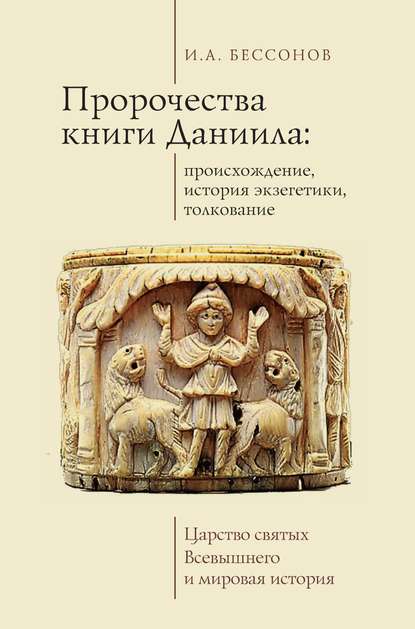По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пророчества книги Даниила: происхождение, история экзегетики, толкование. Царство святых Всевышнего и мировая история
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Радикально новым явлением стала псевдоэпиграфия, возникшая уже в эллинистическое время. В этот период (приблизительно с 200 года до н.э. до 200 года н.э.) создается большое количество псевдо-эпиграфических сочинений апокалиптического характера, первоначально в иудейской, а позднее и в христианской среде. Наиболее ранними из них стали Книга Стражей, Апокалипсис Недель и Книга Даниила; позднее был составлен еще целый ряд псевдоэпиграфических произведений – Апокалипсис Животных, Послание Еноха, Астрономическая книга Еноха, Книга Образов, Вознесение Моисея, Третья книга Эзры, Завещания двенадцати патриархов, книга Баруха и т.д. Примечательно, что все еврейские апокалипсисы имеют псевдоэпиграфический характер, что, конечно, не может быть случайным. К изложению причин данного явления мы и обратимся далее.
С одной стороны, псевдоэпиграфическая традиция в некотором смысле стала продолжением более ранней еврейской традиции псевдоэпиграфической атрибуции. Подобно тому, как составители Второзакония и Жреческого кодекса видели в себе продолжателей учения Моисея, а авторы поздних разделов книги Исаии – пророка Исаии, так авторы многих апокалиптических сочинений усматривали в себе только наследников и продолжателей учения того или иного древнего пророка и мудреца. Подобный подход представляется особенно уместным применительно к книге Даниила. Книга Даниила была приписана исторической личности, жившей в обозримом прошлом, повествования о которой, содержащиеся в первой части книги Даниила, воспринимались авторами апокалиптических видений как достоверные исторические сообщения. Вполне вероятно, что группа, к которой принадлежали авторы видений, действительно видела в себе непосредственных наследников и продолжателей пророка Даниила и его друзей (см. ниже). В этом отношении процесс роста книги Даниила может быть сопоставлен с расширением книги Исаии, когда к повествованию о жизни пророка Исаии и его предсказаниям, содержащимся в первой части книги, были добавлены предсказания более поздних пророков, принадлежавших к школе пророка Исаии.
Тем не менее процесс написания псевдоэпиграфических произведений все-таки не сравним с расширением содержания пророческих книг. Даже вторая часть книги Даниила содержит обширный повествовательный элемент, описывающий все обстоятельства получения пророком Даниилом тех или иных видений – не говоря уже о сочинениях, связанных с именами Еноха или Эзры, в которых приводятся пространные рассказы о том, каким образом они стали реципиентами божественных откровений. Что побуждало авторов еврейских апокалипсисов каждый раз придавать своему изложению подобный литературный и мистифицирующий читателя характер?
Ряд историко-культурных и психологических объяснений этого явления был предложен британским ученым Д.С. Расселом[33 - Russel D.S. The Method and Message of Jewish Apocalyptic: 200 BC – AD 100. Philadelphia, 1964.]. Во-первых, он обращается к предложенной в 1936 году Г. Робинсоном концепции «коллективной личности» (corporate personality), характерной для древнееврейского мышления и библейской литературы. По мнению Робинсона «вся группа, включая ее прошлых, настоящих и будущих членов, может функционировать как единство посредством любого из членов группы, воспринимаемого как ее представитель»[34 - Robinson H. Wheeler. The Hebrew Conception ofCorporate Personality // Werden und Wesen des Alten Testaments: Vortr?ge gehalten auf der internationalen Tagung alttestamentlicher Forscher zur G?ttingen vom 4–10 Semtember 1935. Berlin, 1936. P. 49. См. также Robinson H. Wheeler. Corporate Personality in Ancient Israel. Edinburgh, 1981.]; кроме того, «существует возможность плавного перехода от одного ко многим и от многих к одному», и в некоторых случаях возникает даже «идентичность индивида с группой, к которой он принадлежит»[35 - Op. cit. P. 70.]. По мнению Рассела, этот принцип применим и к псевдоэпиграфической апокалиптике: «Так, как все (в апокалиптической традиции) могут говорить за одного (древнего провидца, от имени которого они пишут), так один (апокалиптический писатель) может говорить за всех. В этом отношении апокалиптики в своих писаниях старались выразить то, что, по их мнению, человек, от имени которого они пишут, мог бы сказать, если бы жил в их время. Как представители традиции они являются представителями самого провидца и могут справедливо использовать его имя»[36 - Russel D.S. Op. cit. P. 154.].
Другой особенностью древнееврейского мышления, тесно связанной с понятием «коллективной личности», Рассел называет принцип идентичности подобных событий, происходивших в разные исторические эпохи. Так, вавилонский плен уподобляется египетскому рабству, а освобождение из него рисуется в качества повторения исхода из Египта. Подобная черта позволяла авторам апокалиптических произведений в некотором смысле отождествлять себя с мудрецами древности, оказывавшимися в схожих жизненных обстоятельствах. Зачастую в подобном принципе содержится ключ к атрибуции псевдоэпиграфических произведений: автор каждый раз выбирал в качестве получателя откровения наиболее подходящую для этого легендарную фигуру. Так, автор книги Даниила совершенно явно сделал Даниила получателем откровения о гонениях Антиоха и об осквернении Храма именно под влиянием известных ему арамейских историй о пророке и его друзьях, содержащихся в первой части книги. В них мы видим историю пророка, ставшего свидетелем разорения Иерусалима и осквернения священных сосудов Храма (Дан 1, Дан 5), пророка, живущего при дворе возгордившегося и обезумевшего царя (Дан 4), принуждающего всех поклоняться воздвигнутому им идолу (Дан 3), пророка, вместе со своими друзьями выступающего исповедником иудейской веры даже под угрозой смерти (Дан 3, Дан 6). Все эти обстоятельства представлялись автору книги Даниила весьма близкими к тому, что происходило при Антиохе Епифане, что позволило ему отождествить себя и своих единомышленников с Даниилом и его друзьями.
Еще одна интересная сторона псевдоэпиграфии, отмеченная целым рядом исследователей, относится к вопросу о возможном реальном визионерском опыте, стоящем за произведениями авторов еврейских апокалиптических сочинений. Этот вопрос, пожалуй, разобран и аргументирован наиболее основательно, практически не оставляя сомнения в том, что во многих случаях их авторы описывали свой реальный мистический опыт, приписывая его кому-либо из мудрецов древности. Аргументы в пользу этой точки зрения довольно многочисленны. Можно начать хотя бы с того, что очевидно, что авторы столь серьезных религиозных сочинений, в некоторых случаях принадлежащие к преследуемым религиозным группам, высоко оценивающим идею мученичества за веру (ярким примером здесь может быть книга Даниила), не стали бы прибегать к сознательной лжи относительно содержания своего пророческого опыта; напротив, псевдоэпиграфическая атрибуция отчасти была одним из способов более эффективно донести его до окружающих[37 - Совершенно аналогичный мотив мы находим у марсельского христианского писателя V века н.э. Сальвиана, который, обличая современное ему общество, выдал одно из своих сочинений за произведение ученика апостола Павла Тимофея, мотивируя это тем, что он «избрал псевдоним для своей книги по той причине, что не желал, чтобы неизвестность его персоны лишила влияния его ценное сочинение» (Haefner Alfred E. A Unique Source for the Study of Ancient Pseudonymity // Anglican Theological Review. № 16 (1934). P. 8–15).]. Кроме этого общего соображения к подобному выводу нас подталкивает целый ряд наблюдений над текстами псевдоэпиграфических сочинений: при их анализе становится очевидно, что авторы не просто использовали некоторые литературные шаблоны, а говорили о своем реальном мистическом опыте.
Подробное изложение этой точки зрения принадлежит Д. Расселу. Он полагает, что в своих сочинениях авторы по крайней мере некоторых псевдоэпиграфов сообщали читателю о своем реальном визионерском опыте. По его мнению, автор подобного сочинения «приписывал тому, под чьим именем он писал, такой опыт, который он сам ожидал получить в качестве послания, и многое из которого могло быть реальным опытом, который, как полагал автор, был вдохновлен свыше»[38 - Russel D.S. Op. cit. P. 158. См. также Merkur Daniel. Visionary Practice in Jewish Apocalyptists // The Psychoanalytic Study ofSociety 14 (1989). P. 1 19–148.]. В этом отношении апокалиптическая литература имеет ряд примечательных особенностей. В ней гораздо чаще, чем в литературе пророков, встречаются указания на получение мистического опыта – описания снов, видений и даже вознесения на небо. Все описанные формы получения откровений были вполне реальными способами «коммуникации с высшим миром», характерными как для древневосточной и древнееврейской, так и для античной и раннехристианской традиции[39 - Шолем Гершом. Основные течение в еврейской мистике. М.-Иерусалим, 2007. С. 1 17; Идель Моше. Каббала: новые перспективы. М.-Иерусалим, 2010. С. 140–177.]. Уже исходя из этого можно предположить, что авторы псевдоэпиграфов вполне могли переживать и, скорее всего, действительно переживали подобный опыт. Особый интерес здесь представляют описания психологической реакции духовидцев на получение откровений, которые настолько конкретны и правдоподобны, что вполне можно предположить, что за ними стоит нечто большее, чем литературная условность. Многочисленные примеры этого мы можем видеть и в книге Даниила. Так, после своего пророческого сна пророк говорит, что «меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось» (Дан 7, 28); после видения, в котором пророк переносится в Сузы, «Даниил изнемог и болел несколько дней <…> изумлен был видением сим и не понимал его» (Дан 8, 27).
Еще более важную роль играет описание мистических практик, которые, судя по всему, реально использовались апокалиптиками эпохи Второго Храма для получения откровения свыше[40 - Russel D.S. Op. cit. P. 169–173.]. Так, пророк Даниил перед своим последним видением «был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел; мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умащал себя до исполнения трех седмиц дней» (Дан 10, 2–3). Аналогичным образом, чтобы получить ответ на свой вопрос о значении пророчества Иеремии, Даниил «обратил <…> лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле» (Дан 9, 3). Указание на соблюдение постов, предшествовавшее явлению откровения, мы находим в книгах Эзры и Баруха.
Асенеф, героиня апокрифической «Повести об Иосифе и Асенеф», перед получением небесного откровения проводит неделю в плаче и покаянии. В некоторых сочинениях также говорится об особой диете, которая необходима для получения откровений: так, Эзра перед получением одного из своих откровений питается только полевыми цветами (3 Ездр 9, 23). Некоторые исследователи также обращают внимание на необычность и нетрадиционность – и в то же время психологическую точность видений, описываемых в некоторых псевдоэпиграфических сочинениях. Так, содержащаяся в Третьей книге Эзры беседа героя с таинственной скорбящей женщиной и ее последующее превращение в Иерусалим (3 Ездр 10, 27) выглядит столь необычным для литературной традиции и столь психологически правдоподобным, что опять-таки наводит нас на мысль об описании автором своего реального визионерского опыта[41 - Stone Michael E. A Reconsideration of Apocalyptic Visions // The Harvard Theological Review. Vol. 96, No. 2 (Apr 2003). P. 167–180.].
Некоторые исследователи идут еще дальше, предполагая, что авторы псевдоэпиграфов не просто приписывали мудрецам древности свои собственные откровения, а реально мистически отождествляли себя с ними, полагая, что им снова явились откровения, когда-то явленные героям древности. Одним из оснований этой идеи могло стать восприятие видений не как внутренней психологической реальности, а как некоторых объектов, существующих независимо от человеческого восприятия. Как отмечает Д.С. Рассел, подобную концептуализацию видений можно увидеть во многих псевдоэпиграфических сочинений, таких как сочинения, связанные с именем Еноха, книга Баруха и книга Даниила[42 - Russel D.S. Op. cit. P. 163.]. Еще более очевидным образом откровения приобретают объективный и раз и навсегда зафиксированный характер в Третьей книге Эзры. В ней говорится о том, что Эзра в течение сорока дней получает от Бога девяносто четыре книги Божественного откровения и еще семьдесят эзотерических книг, предназначенных только для «мудрых из народа» (3 Ездр 14, 47–48). Таким образом, небесное откровение в данном случае понимается как книги, которые могут быть даны любому из пророков. Примечательно, что именно в апокалиптической литературе мы находим активное развитие темы небесных книг, которые и являются источниками пророческого откровения[43 - Meade David G. Op. cit. P. 79–80; Андросова В.А. Небесные книги в Апокалипсисе Иоанна Богослова. М., 2013.]. При подобном подходе откровение приобретает предметный и объективный характер – оно может быть однажды даровано древнему пророку, а затем еще раз открыто автору псевдоэпиграфического сочинения по его собственному убеждению, являющемуся свидетелем конца времен.
Не менее интригующая гипотеза была предложена бразильским исследователем В. Доброрукой. По его мнению, псевдоэпиграфия может «восприниматься и функционировать как разновидность феномена одержимости, в котором реальный писатель представляет себе, что является именно тем человеком, от имени которого он пишет»[44 - Dobroruka Vicente. Second Temple Pseudepigraphy: A Cross-cultural Comparison of Apocalyptic Texts and Related Jewish Literature. Boston, 2014. P. 5.]. Он строит свою работу на сравнении древнееврейской псевдоэпиграфии с творчеством бразильских спиритуалистов, в частности, известного медиума Шику Шавьера, написавшего более 400 книг с помощью автоматического письма. Шавьер искренне полагал, что не является автором этих книг, приписывая авторство душам, передававшим ему сообщения. По мнению Доброруки, аналогичный феномен связи с душами древних мудрецов (или в случаях Еноха и Илии с телесно вознесенными на небо праведниками) может стоять за псевдоэпиграфической литературой; в частности, он приводит легендарное описание перевода Септуагинты у Филона Александрийского, напоминающее феномен автоматического письма. Согласно приведенной им истории, семьдесят переводчиков в уединении переводили библейский текст на греческий язык, в результате получив абсолютно идентичные тексты, «как будто бы продиктованные» им свыше. Концепция одержимости духом древнего пророка и, тем более, написания псевдоэпиграфических сочинений с помощью автоматического письма, разумеется, может показаться небесспорной и недостаточно подкрепленной фактическими материалами, однако ее, безусловно, никоим образом невозможно исключить из рассмотрения.
Таким образом, мы видим, что авторы псевдоэпиграфов в целом должны рассматриваться не как создатели подложных произведений, а как истинные мистики, передававшие своим современникам божественные откровения, и подписывавшие их именами древних мудрецов, чьей истинной принадлежностью они считали указанные откровения. К подобному подходу склоняется целый ряд исследователей псевдоэпиграфии – кроме перечисленных выше авторов можно назвать таких ученых как В. Шпеер[45 - Speyer W. F?lschung. Pseudepigraphische freie Er?ndung und ‘echte religiose Pseudepigraphie’// Pseudepigrapha I. Vandoeuvres-Geneva, 1972. S. 333–366.], Дж. Коллинз[46 - Collins John J. The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature. Michigan-Cambridge, 2016. P. 39–40.], К. Роуланд[47 - Rowland Cristopher. The Open Heaven. A Study ofApocalyptic in Judaism and Early Christianity. London, 1982. P. 240–247.], А. Орлов[48 - Orlov Andrei. Moses Heavenly Counterpart in Jubilees and Exagoge // Selected Studies in the Slavonic Pseudepigrapha. Leiden-Boston, 2009. P. 198–200.]. Если согласиться с этой точкой зрения, то можно заключить, что единственный обман своих читателей, который позволяли себе авторы псевдоэпиграфических сочинений, состоял в том, что они не сообщали читателю об истинном процессе создания своих произведений, а стремились выдать их за воспроизведение подлинных рукописей древнего автора, каким-то чудом сохранившихся до настоящего времени и открытых только публикатором псевдоэпиграфа[49 - Baum Armin D. Revelatory Experience and Pseudoepigraphical Attribution in Early Jewish Apocalypses // Bulletin for Biblical Research 21.1 (201 1). P. 90–91.]. Этот подход не чужд и автору книги Даниила. В видениях Даниила постоянно акцентируется, что его сочинение должно быть скрыто от читателей до «последнего времени» (Дан 8, 26; Дан 12, 9), под которым автор очевидным образом понимал эпоху гонений Антиоха. Подобный прием должен был объяснить читателю тот факт, что предлагаемое ему сочинение древнего автора до сих пор не было известно и не входило в библейский канон.
Зачем же авторы псевдоэпиграфов шли на обман, приписывая собственные откровения мудрецам древности? Наиболее распространенное в науке объяснение этого факта состоит в том, что создание псевдоэпиграфической литературы было вызвано закрытием библейского канона. Это мнение было высказано уже британским богословом начала прошлого века Р. Чарльзом. По его мнению, закрытие библейского канона и господство Моисеева Закона в эпоху Второго Храма привело к тому, что претензии на пророческий статус должны были неизбежно вызвать недоверие, а то и обвинения в лжепророчестве[50 - Charles Robert H. Eschatology: The Doctrine of a Future Life in Israel, Judaism and Christianity. London, 1913; Charles Robert H. The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament. Vol.2. Oxford, 1913.]. Этот мотив становится особенно очевидным в связи с тем, что в определенный период среди еврейской общины сложилось мнение о том, что дух пророчества, некогда действовавший в Израиле, оставил еврейский народ. Раввинистическая традиция считает, что все пророки родились до разрушения Первого Храма и последними пророками были Аггей, Захария и Малахия. Неизвестно, насколько рано сложилась подобная концепция, однако тот факт, что оракулы поздних пророков были добавлены к книгам Исаии и Захарии, а некоторые поздние тексты в целом негативно высказываются о пророках как об обманщиках (Зах 13, 1–6) свидетельствует о том, что в эпоху Второго Храма пророки начинают восприниматься только как герои прошлого, в то время как современные претензии на пророческий статус априори расцениваются как ложные[51 - Rowland Cristopher. Op. cit. P. 66–70.]. Во II веке до н.э., эпохе начала широкого распространения псевдоэпиграфии, учение о прекращении пророчества воспринималось в некоторых еврейских кругах как самоочевидное. Так, в Первой книге Маккавейской повествуется о том, что после очищения Храма Маккавеями оскверненные языческими жертвоприношениями камни храмового алтаря «сложили на горе храма в приличном месте, пока придет пророк и даст ответ о них» (1 Макк 4, 46). Очевидно, что автор этого пассажа считает само собой разумеющимся, что в настоящее время пророков нет, и пророчество может возобновиться только в будущем, в эсхатологическое время. В подобной ситуации, когда претензии на получение откровений свыше были бы восприняты с недоверием и даже могли навлечь обвинения в лжепророчестве, апокалиптики были вынуждены прибегать к использованию псевдоэпиграфии, утверждая, что стали обладателями рукописей, созданных кем-то из древних мудрецов. Этот обман в их глазах должен был представляться не только невинным, но и неизбежным и богоугодным делом, коль скоро они желали донести до своих современников полученное ими послание свыше.
Таким образом, мы можем заключить, что псевдоэпиграфический характер книги Даниила никоим образом не ставит под сомнение ее каноничность и не уменьшает ее богодухновенности и даже богооткровенности. Видения Даниила были составлены книжниками, принадлежавшими к кругу, возводившему свое происхождение к пророку Даниилу и его друзьям; очень вероятно, что они реально видели видения, которые затем приписали древнему пророку. Исходя из этого, мы должны всерьез относиться к книге Даниила как к данному Богом откровению свыше – откровению, актуальному не только для евреев маккавейской эпохи, но и для современных читателей книги Даниила.
Толкование священного писания. Sensus plenior
Прежде, чем перейти к комментированию самой книги Даниила, необходимо рассмотреть вопрос о методах и принципах богословского толкования библейских произведений. Большинство современных комментаторов Священного Писания в своей работе в первую очередь руководствуются историко-критическим методом. Этот метод предполагает изучение библейских книг как литературных произведений, прошедших длительную эволюцию, порожденных определенной средой с ее религиозными, культурными и социальными особенностями. Его главной целью является определение смысла, вложенного в тот или иной библейский текст его автором[52 - Согласно выражению О.Х. Штека «оригинальный смысл текста» (Steck Odil Hannes. Old Testament Exegesis. A Guide to the Methodology. Atlanta, 1998. P. 1–2).]. Историко-критический метод включает в себя целый ряд частных научных методов, использующихся исследователями для анализа библейского текста. Это текстуальная критика, служащая для установления оригинального библейского текста, литературный критицизм, рассматривающий историю его формирования, изучение истории редакций определенного текста и истории форм (жанров), входящих в его состав; исследование истории традиций, отразившихся в том или ином тексте, определение исторической ситуации создания библейского текста и формирующих его слоев[53 - Steck Odil Hannes. Op cit. P. 19–20.].
Все эти методы, безусловно, незаменимы при изучении истории создания библейских произведений и определении первоначального авторского замысла, вложенного в то или иное сочинение. Однако они акцентируют внимание только на одной стороне библейского текста. Во-первых, они всецело сосредоточены на человеческом авторстве Писаний – до такой степени, что работы представителей историко-критического метода нередко производят впечатление полного игнорирования или даже отрицания божественного авторства Священного Писания. Во-вторых, исследование Писания в работах представителей историко-критического метода представляет собой движение в прошлое – от канонического текста к его древним пластам и их значениям, в то время как движение текста в будущее – к новым значениям, приобретаемым текстом в процессе истории почитающей его религиозной общины, в рамках всего иудейского и христианского канона и более поздней экзегетической традиции, не является предметом исследования и фактически игнорируется. Указанные недостатки историко-критического метода заставляют нас обратиться к другим методам исследования библейского текста, являющимся частью традиционной библейского экзегетики. В данном случае нас, в первую очередь, будут интересовать толкования содержащихся в Библии пророческих и апокалиптических текстов, традиционно вызывающих как наибольший интерес у читателей, так и наибольшие сложности у толкователей.
Классические пророческие тексты Ветхого Завета в эпоху своего создания не требовали специального толкования – их смысл был хорошо понятен современникам, которым и был адресован. Однако канонизация пророческих книг в составе библейского канона радикального изменила ситуацию – пророческие сочинения превратились в тексты, адресованные общине верующих на протяжении всей ее истории. Первоначальные смыслы пророческих книг забывались или теряли актуальность, но сами книги продолжали читаться и восприниматься как Священное Писание. В результате начинается процесс возникновения особого жанра толкований пророческих книг, авторы которых стремились понять заключенный в них смысл. Зачастую это происходило с помощью достаточно прямолинейной актуализации – толкователи стремились связать указанные тексты со своей эпохой и увидеть в древних пророческих текстах современные им реалии.
Древнейший пример подобного подхода к толкованию Библии мы находим в свитках Кумранской общины, создавшей первые в мировой истории последовательные комментарии библейских книг[54 - Bockmuehl M. The Dead Sea Scrolls and the Origins of Biblical Commentary // Text, Thought, and Practice in Qumran and Early Christianity. Leiden, 2009. P. 3.]. Их наиболее ярким примером является толкование книги пророка Аввакума, в котором предсказанные в ней события переосмысливаются и связываются с современной авторам комментария исторической ситуацией и жизнью кумранской общины. В науке кумранские толкования получили название «пешер» (???), буквально «толкование», «интерпретация». Общий принцип кумранской экзегетики можно уяснить из весьма знаменательной фразы, содержащейся в комментарии на книгу Аввакума: «И велел Бог Хаваккуку записать то, что произойдет {с} последним поколением, но (тайну) срока исполнения он не возв[е]стил ему. А относительно того, что Он сказал: “Чтобы читающий бегло прочитал” (2:2), – имеется в виду Учитель праведности, которому Бог поведал все тайны слов Его пророков-рабов»[55 - Тексты Кумрана. Вып. 1. М., 1971.]. Таким образом, кумраниты полагали, что истинное значение пророчеств было непонятно даже самим пророкам и должно было быть открыто только членам общины. Библейские пророчества понимались ими как загадочные божественные послания, смысл которых станет ясен только во времена их исполнения благодаря «богодухновенному экзегесису» лидера общины – Учителя Праведности. Вопрос происхождения манеры комментирования, характерной для Кумрана, давно вызывает интерес исследователей. В качестве возможных источников кумранской традиции комментирования они называют как месопотамскую и египетскую традицию толкования снов и знамений, так и эллинистическую традицию комментирования древнегреческой классики[56 - Относительно возможности эллинистического влияния на кумранские комментарии см. Pieter B. Hartog. Pesher and Hypomnema: A Comparison ofTwo Commentary Traditions from the Hellenistic-Roman Period. Leiden-Boston, 2017.]. Судя по всему, центральная для пешеров идея тайны, заключенной в божественном послании свыше, имеет древневосточное происхождение, в то время как форма комментария к классическому тексту может быть результатом эллинистического влияния[57 - Machiela Daniel A. The Qumran Pesharim as Biblical Commentaries Historical Context and Lines of Development // Dead Sea Discoveries 19 (2012). P. 313–362; Collins John J. The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature. Michigan-Cambridge, 2016. P. 189.]. Примечательно, что более ранняя стадия эволюции традиции, позднее отразившейся в кумранских комментариях, вероятно может быть усмотрена в книге Даниила[58 - Elliger K. Studien zum Habakkuk-Kommentar vom Toten Meer. T?bingen, 1953. S. 1 18–64; Machiela Daniel A. Op. cit. P. 357; Fishbane Michael. The Qumran Pesher and Traits of Ancient Hermeneutics // Proceedings ofthe World Congress of Jewish Studies. Vol. I. Division A. Jerusalem, 1973. P. 1 14.]. В приведенных в ней толкованиях снов фигурирует арамейский термин ??? (Дан 2, 36), являющийся точным арамейским соответствием еврейского наименования кумранских комментариев (пешер). В связи с этим довольно примечательной выглядит связь кумранского пешера с месопотамской традицией комментирования снов и знамений, по-видимому, унаследованной Кумраном через круги, из которых вышли книга Даниила и сочинения, связанные с именем Еноха. Кумранские толкования библейских пророческих текстов вероятно имеют своим прообразом месопотамские толкования снов и знамений, которые в еврейской среде стали восприниматься как толкования посланий свыше, имеющих апокалиптический смысл. Примечательно, что структуру, близкую к кумранским комментариям, мы находим уже в самой книге Даниила. Так, Даниил каждый раз приходит в недоумение относительно значения своих видений, и их смысл объясняется ему только angelus interpres, выступающим в роли богодухновенного толкователя, которому в Свитках Мертвого Моря аналогичен Учитель Праведности.
Следующие примеры интерпретации, близкой по своему характеру к кумранской, мы находим в Новом Завете. Они особенно характерны для Евангелия от Матфея, где автор постоянно говорит об исполнении пророчеств, осуществленном Иисусом Христом (Мф 1, 23, Мф 2, 15, Мф 2, 23). Параллели между экзегетическим методом Матфея и Кумранской общины уже давно обратили на себя внимание исследователей[59 - Stehndahl Krister. The School ofSt. Matthew and Its Use ofthe Old Testament. Uppsala, 1954.]. Не вдаваясь в обсуждение научной полемики относительно возможной связи между манерой комментирования, характерной для кумранитов и матфеевской общины, мы хотим, в первую очередь, обратить внимание на то, что оба движения полагали, что действуют во времена начала эсхатологического Избавления, и состояли из евреев, высоко ставящих авторитет пророческих книг. В результате их библейская экзегеза в первую очередь сосредотачивалась на толковании пророчеств, которые ставились в соответствие с событиями, актуальными для членов этой религиозной общины. В Евангелии от Матфея основное внимание уделяется библейским пророчествам, призванным доказать мессианское достоинство Иисуса Христа. Примечательно, что автор нередко связывает с этой темой библейские пророчества, первоначально не имевшие мессианского смысла, равно как и приводит легендарные повествования, близкие по своему характеру к агадическим мидрашам.
Однако подобный подход довольно рано встретил возражения тех комментаторов, которые стремились понять историческую ситуацию автора и реконструировать оригинальный смысл пророческого текста, подойдя к нему с позиций, близких к современному историческому подходу. В христианской экзегетике подобный подход был принят представителями Антиохийской богословской школы, по мнению которых первостепенное значение должен иметь анализ буквального, исторического смысла библейского текста. В результате число возможных ветхозаветных пророчеств о Христе заметно сокращалось: так, Феодор Мопсуетский находил в Псалтири только четыре псалма, указывающих на Иисуса Христа (2, 8, 44, 109)[60 - Tracy David, McQueen Robert. A Short History of the Interpretation of the Bible. Minneapolis, 1988. P. 66.]. Тем не менее антиохийцы не могли отказаться от многих толкований ветхозаветных пророчеств, связывающих их исполнение с евангельскими событиями хотя бы по той причине, что они уже были освящены христианской традицией. В результате возникала ситуация, когда антиохийским экзегетам приходилось констатировать, что пророчество имеет два смысла, один из которых относится к событиям Ветхого, а другой – Нового Завета. Так, явление Сына Человеческого в Дан 7 понималось Ефремом Сирином одновременно как указание на победу иудеев над Антиохом Епифаном и как указание на воскресение и вознесение Иисуса Христа. Проблема соотношения ветхозаветных и новозаветных исполнений библейских пророчеств зачастую решалась антиохийскими экзегетами с помощью типологии – соотнесения новозаветных событий и лиц с ветхозаветными, выступающими в качестве их «прообразов». Теоретическое обоснование применения подобного подхода к библейским пророчествам мы находим у известного экзегета антиохийской школы Диодора Тарсийского. По его мысли, «пророки, предвозвещая события, свои речи приспосабливали и к временам, в которые они их произносили, и к последующим временам. При этом оказывается, что о настоящих обстоятельствах времени говорится гиперболически, а по отношению к исполнению пророчеств – вполне подходящим и соответствующим образом»[61 - Священник Тимофеев Борис. Диодор Тарсийский. Предисловие к толкованию на 118-й псалом. // Святоотеческая экзегетика. 2016. № 2. С. 220.]. Руководствуясь этим принципом, антиохийские экзегеты выделяли в ветхозаветных пророчествах два значения – одно относящееся к библейской истории и актуальное для современников пророка, и другое, относящееся к новозаветным событиям.
Антиохийская концепция получила развитие в средневековой экзегетике, пытавшейся встроить подобные случаи в общую система толкования Священного Писания. Уже в XIV веке французский экзегет Николай Лирский предложил концепцию duplex sensus literalis «второго буквального смысла» Священного Писания. По его мнению, многие ветхозаветные пророчества имели два буквальных смысла – один относящийся к ветхозаветным событиям, а другой, более полный, – к новозаветным. Идея Николая Лирского на многие века опередила свое время – она получила признание только в XX веке.
Развитие научной библеистики и историко-критического метода постепенно изменило представление о буквальном смысле библейского текста. В Новое время буквальный смысл начинает определяться не просто как прямой смысл слов Священного Писания, а как смысл, вложенный в библейский текст его человеческим автором. По мнению Б. Чайлдса подобное переосмысление буквального смысла происходит в XVIII веке, когда «sensus literalis становится sensus originalis»[62 - Childs Brevard S. ‘The Sensus Literalis’ ofScripture: An Ancient and Modern Problem // Beitrage zur Alttestamentliche Theologie: FS Walter Zimmerli. G?ttingen, 1977. P. 89.]. Подобное понимание буквального смысла сделало проблематичным соотнесение ветхозаветных пророчеств с новозаветными событиями: очевидно, что пророки, обращаясь к своим слушателям, говорили о современных им реалиях, а не о событиях, которые произойдут через многие века. Этот факт в XIX-XX веках был блестяще подтвержден представителями историко-критического метода, во многих случаях реконструировавшими исторический и литературный контекст тех или иных библейских пророчеств и показавших, что первоначально они говорили о проблемах и реалиях своей эпохи и зачастую вовсе не имели мессианского смысла, приписанного им в христианской традиции. Тем не менее, канонические и святоотеческие толкования библейских пророчеств не могли быть просто отброшены; они должны были получить какое-то место в церковной герменевтике. Кроме того, идентификация смысла библейских произведений с авторским замыслом игнорировала бы церковные толкования Священного Писания, что также было неприемлемо для консервативных экзегетов.
Пытаясь решить эти проблемы, католические ученые выдвинули теорию sensus plenior, «более полного смысла». Этот термин был в 1925 году предложен Андреа Фернандесом, в первую очередь применительно к ветхозаветным пророчествам, получающим новый смысл в контексте Нового Завета[63 - Fernаndez F. Andre. Hermenеutica. Rome, 1927. P. 306.]. Согласно указанной концепции, помимо буквального смысла того или иного библейского текста, прямо подразумевавшегося автором и понимавшегося его первыми читателями, существует более полный смысл, вложенный в Писание Богом как его Автором, который раскрывается с течением времени. Позднее бельгийский исследователь Коппан в своей работе «Гармония двух Заветов»[64 - Coppens J. Les harmonies des deux Testaments. Tournai-Paris, 1949.] выделил три разновидности sensus plenior – pеrichoretique (смысл, который та или иная библейская книга приобретает в контексте всей Библии), historico-typique (историко-типологический), prophеtico-typique (более полный смысл пророчества, который становится очевидным только после его исполнения). Именно последняя разновидность, «более полный пророческий смысл», и будет интересовать нас в наибольшей степени. По мнению католических ученых, этот смысл, изначально вложенный в Писание Богом, открывается позднее, возможно через многие века после создания этого текста. По определению Р. Брауна, автора отдельной монографии, посвященной sensus plenior, он может быть определен как «дополнительное, более глубокое значение, подразумевавшееся Богом, но явно не подразумевавшееся человеческим автором, которое может быть усмотрено в словах библейского текста (или группы текстов или даже целой книги), изучаемого в свете дальнейшего откровения или развития в понимании откровения»[65 - Brown Raymond E. The Sensus Plenior ofSacred Scripture. Baltimore, 1955. P. 92.].
Примечательно, что католические исследователи не ограничивают sensus plenior новозаветными толкованиями библейских пророчеств (в этом случае имела бы место просто «дополнительная гипотеза», призванная обосновать безошибочность Писания). Так, уже А. Фернандес усматривал sensus plenior в некоторых ветхозаветных книгах, предвосхищающих концепцию Троицы. Современные католические авторы находят sensus plenior не только в Ветхом, но и в Новом Завете. Так в документах Библейской комиссии приводятся такие новозаветные примеры sensus plenior как католическое учение о Троице, следующее из новозаветных наименований Отца, Сына и Святого Духа, и учение Тридентского Собора о первородном грехе, основанное на развитии взглядов апостола Павла, изложенных в Послании к Римлянам[66 - Williamson Peter S. Catholic Principles for Interpreting Scripture. A Study ofthe Ponti?cal Biblical Commission’s “The Interpretation of the Bible in the Church”. Roma, 2001. P. 206.]. Таким образом, мы видим, что способностью к открытию скрытого в Писании sensus plenior обладают не только новозаветные авторы, но и церковная традиция в целом. Эта идея радикальным образом отличается от протестантского подхода к sensus plenior, который ограничивает его применение новозаветными интерпретациями библейских пророчеств, таким образом позволяя свести его к «каноническому подходу» к интерпретации Библии.
Сторонники концепции sensus plenior приводят ряд новозаветных пассажей, прямо указывающих на то, что Священное Писание подтверждает возможность существования подобного смысла. Бесспорным и часто цитируемым примером sensus plenior является следующий пассаж из Евангелия от Иоанна: «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ» (Ин 11, 49–51). В данном случае мы видим именно классический пример sensus plenior, пророческого смысла высказывания, прямо содержащегося в его тексте, скрытого от говорящего, но вложенного в него Богом. Разумеется, Каиафа не относится к числу пророков и праведников, однако сам пример примечателен тем, что здесь представление о возможности подобного «скрытого пророческого смысла» нашло прямое отражение в Новом Завете. Другой текст, часто обсуждающийся в связи с sensus plenior, мы находим в Первом послании Петра: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы» (1 Пет 1, 10–12). Вероятно, концепция sensus plenior прямо не может быть выведена из размышлений автора Послания, однако из них следуют два немаловажных вывода: во-первых, пророки, провозглашавшие мессианские пророчества, не имели определенного знания относительно времени исполнения своих предсказаний, и, во-вторых, это послание было, в первую очередь, предназначено не современникам, а тем, кто станет свидетелем исполнения указанных пророчеств. Подобное представление весьма близко к взглядам членов кумранской общины, высказанным в комментарии на книгу Аввакума, согласно которому пророчества были адресованы «последнему поколению» и дата их исполнения еще не была известна самим пророкам. По мнению Х.Г. Ревентлоу из подобного взгляда можно сделать вывод, что сами пророки не знали, какие события описываются в их пророчествах и их истинный смысл, таким образом, откроется в конце времен[67 - Reventlow Henning Graf. History of Biblical Interpretation. Volume 1. From the Old Testament to Origen. Atlanta, 2009. P. 30–31.].
Если согласиться с подобной точкой зрения, то трактовка пророчества кумранитами и аналогичное мнение автора Первого послания Петра представляются весьма близкими к концепции sensus plenior.
Как видно, концепция sensus plenior имеет определенные основания в Священном Писании и неплохо обоснована экзегетами XX столетия. Тем не менее большинство случаев его практического использования сводится опять-таки к новозаветным толкованиям библейских пророчеств и пониманию отдельных пассажей Нового Завета отцами Церкви. Если ограничить использование концепции sensus plenior подобными случаями, то она окажется сугубо прикладной теорией, служащей для защиты представления о безошибочности Нового Завета и обоснования некоторых церковных концепций, имеющих недостаточную опору в Священном Писании (например, мариологии). В таком случае, концепция sensus plenior оказывается весьма ограниченной в своем применении и вряд ли может принести существенную пользу для проведения богословских исследований. Концепция sensus plenior может оказаться продуктивной только в том случае, если мы будем использовать sensus plenior для толкования Священного Писания без опоры на канонические новозаветные тексты. В таком случае, sensus plenior перестанет выглядеть апологетическим приемом, а займет свое место в системе принципов богословского толкования Священного Писания.
Sensus plenior непосредственно связан с целым рядом смыслов, традиционно выделявшихся экзегетами – буквальным смыслом, аккомодативным смыслом и духовными (типологическим и аллегорическим) смыслами. Наиболее близким sensus plenior является буквальный смысл – sensus plenior как таковой является «вторым буквальным смыслом», смыслом слов, записанных автором, которым приписывается иное значение, чем то, которое подразумевал автор. Необходима ли связь между значением текста, предполагавшимся автором, и значением, содержащимся в sensus plenior? Многие исследователи отвечают на этот вопрос положительно, полагая, что sensus plenior является некоторым расширением буквального смысла, родственным «динамическому аспекту» буквального смысла. Католический исследователь П. Уильямсон описывает его как «направление мысли» или потенциальное расширение значения, присутствующее в некотором тексте <…> этот динамический аспект дает возможность этим текстам позднее перечитываться в новых обстоятельствах»[68 - Williamson Peter S. Op. cit. P. 169.]. В качестве примера подобного динамического аспекта в работе Уильямсона фигурируют псалмы, первоначально связанные с иудейскими царями, но позднее осмысленные в контексте мессианских ожиданий, являющихся историческим развитием первоначального царского культа. По мнению венгерского исследователя Тибора Фабини само по себе «буквальное значение скорее есть динамический процесс, а не статическая единица; оно находится в постоянном движении, в процессе развития и роста, в постоянном процессе создания»[69 - Fabiny Tibor. The Literal Sense and the “Sensus Plenior” Revisited // Hermathena. No. 151 (Winter 1991). P. 21.]. Подобная трактовка представляется весьма логичной в свете понимания Фабини буквального смысла, который он, вслед за Б. Чайлдсом и Н. Фреем[70 - Frye Northrop. The Great Code: The Bible and Literature. New York-London, 1982. P. 220– 221.], рассматривает как «смысл текста», а не «авторский смысл». По нашему мнению, подобный подход имеет определенную логику, наравне с возобладавшим в Новое время отождествлением буквального и авторского смысла. Священное Писание как богочеловеческое произведение в своем тексте содержит смысл, являющийся результатом действия Бога и человеческого автора; равным образом, мы можем выделить в тексте Священного Писания «оригинальный смысл» человеческого автора и sensus plenior, вложенный туда Богом.
Другим смыслом, по своему значению родственным sensus plenior, является аккомодативный смысл Священного Писания. Вероятно, его сложно назвать «смыслом» в строгом понимании этого слова – скорее это характеристика определенного типа интерпретации Священного Писания, предполагающего его приспособление к различным ситуациям, никоим образом не связанным с первоначальными намерениями человеческого или Божественного автора. Российский исследователь Д.Г. Добыкин определяет аккомодацию как «механическое приспособление библейского текста под современные события, лишь внешне сходные с библейской ситуацией»[71 - Добыкин Д.Г. Православное учение о толковании Священного Писания. Лекции по библейской герменевтике. СПб., 2016. С. 147.]. В качестве примеров аккомодации он приводит толкования библейских пророчеств в Кумранских свитках или толкования Апокалипсиса Дж. Савонаролой, связывавшего его образы с современными событиями, происходившими во Флоренции XV века. Примечательно, что некоторые новозаветные толкования ветхозаветных пророчеств также могут рассматриваться как примеры аккомодации, по своим принципам ничем не отличающейся от кумранских толкований пророческих книг[72 - Fitzmyer Joseph A. Essays on the Semitic Background of the New Testament. Grand Rapids, 1997. P. 56–58.].
Очевидно, что наличие в библейских текстах буквального смысла, подразумевавшегося автором, равно как и возможность их аккомодации, то есть приписывания им нового значения, не подразумевавшегося автором, является тем, что объединяет Библию с любыми другими текстами. Однако иудейская и христианская традиция говорят о таком уникальном свойстве Библии как богодухновенность, наличии не только множества человеческих авторов, но и одного Божественного автора Священного Писания. Именно поэтому в Библии возможен sensus plenior, второй буквальный смысл, вложенный в библейский текст не человеческим, а Божественным автором. Неудачные попытки экзегетов установить данный смысл могут быть определены как примеры аккомодации, в то время как удачные должны дать нам возможность увидеть заключенный в библейском тексте sensus plenior. Считать ли все случаи подобного толкования библейских пророчеств в канонических текстах примерами sensus plenior или допускать возможность появления в них сознательной аккомодации, использующейся в качестве риторического приема, или даже бессознательной аккомодации, продиктованной ошибочным толкованием автора, вероятно зависит от нашего отношения к традиционному представлению о безошибочности Священного Писания и нашего понимания ее возможных границ.
Sensus plenior иногда сближается с традиционными «духовными смыслами» – типологическим и аллегорическим, что представляется нам не вполне справедливым. Принципиальным отличием sensus plenior от типологии является то, что первый является смыслом слов, в то время как последний – смыслом обозначенных этими словами предметов[73 - Brown Raymond E. Op. cit. P. 122.]. Разумеется, в некоторых случаях связь между буквальным смыслом текста и содержащимся в нем sensus plenior может дополняться типологическими отношениями между реалиями, на которые указывают буквальный смысл и sensus plenior, однако такое соотношение может наблюдаться далеко не всегда. Проводимая некоторыми экзегетами аналогия между sensus plenior и аллегорией[74 - Goldingay John. Approaches to Old Testament Interpretation. Toronto, 2002. P. 107–109.] также представляется нам недостаточно убедительной – сущность аллегорического метода состоит в толковании определенных повествований в качестве притч, указывающих на принципиально иные реалии. Отправной точкой аллегорического метода является переосмысление буквального смысла текста, а отнюдь не авторского понимания этого буквального смысла. Таким образом, сближение sensus plenior с аллегорическим смыслом возможно только если мы идентифицируем sensus literalis с sensus originalis, что было бы достаточно спорным решением.
Таким образом, наиболее корректно трактовать sensus plenior как «второй буквальный смысл», который можно было бы назвать «богодухновенной аккомодацией» или «богодухновенным динамическим аспектом буквального смысла». Sensus plenior действительно сложно отделить от аккомодации, и его основное отличие от нее состоит в том, что этот смысл подразумевался Богом как автором Священного Писания, в то время как примеры обычной аккомодации говорят нам только о значении, которое текст получает при его восприятии читателем. В связи с этим принципиальное значение получает вопрос о способах верификации sensus plenior. Большинство исследователей приводит два основных принципа, на основании которых в некотором тексте может быть выявлено существование sensus plenior[75 - Brown Raymond E. The Sensus Plenior in the Last Ten Years // The Catholic Biblical Quaterly. P. Vol. 25. 1963. P. 274; Bergado G.N. The Sensus Plenior as a New Testament Hermeneutical Principle. Master’s Thesis. Trinity Evangelical Divinity School (1969). P. 27; Williamson Peter S. Op. cit. P. 204–205.]. Во-первых, это свидетельство, содержащееся в канонических текстах или церковной традиции. Во-вторых, это определенная гомогенность буквального смысла и sensus plenior, когда последний является своего рода развитием и продолжением первого. Разумеется, с предложенным подходом можно согласиться, однако исключительная опора на Священное Писание и Церковное Предание зачастую приводит к тому, что sensus plenior усматривается только в отдельных пассажах Священного Писания, цитируемых в Новом Завете или обсуждавшихся древними экзегетами. При этом указанный смысл в древности обычно понимался как буквальный; как sensus plenior он стал трактоваться только после того, как успехи научной библеистики сделали невозможным сохранение традиционного понимания указанных пассажей. По нашему мнению, для того, чтобы плодотворно развивать концепцию sensus plenior, необходимо предложить дополнительные методы его верификации, применимые и тогда, когда мы не имеем убедительных толкований того или иного пассажа в традиционной экзегезе. Второй предложенный принцип – гомогенность буквального смысла и sensus plenior – безусловно представляется совершенно справедливым, но критерии подобной гомогенности опять-таки оказываются довольно расплывчатыми.
Таким образом, sensus plenior занял место среди смыслов Священного Писания в католической экзегетике прошлого века, хотя его точная роль и значение до сих пор вызывают споры. Мы не будем вдаваться в детальное обсуждение вопросов, связанных с полемикой вокруг sensus plenior. В следующем разделе мы обсудим вопрос о существовании sensus plenior в книге Даниила и критерии его выявления в библейской пророческой литературе.
Sensus plenior в книге Даниила. Методы толкования библейских пророчеств
В первую очередь, необходимо привести некоторые аргументы, подтверждающие саму возможность существования sensus plenior в библейских пророчествах и, в первую очередь, в книге Даниила. Сама идея появления sensus plenior в пророческих книгах основана на предположении, что пророк может полностью не понимать смысл полученного им послания свыше. Несмотря на возражения некоторых авторов[76 - Обсуждение см. в работе Brown Raymond E. The History and Development of a Theory of Sensus Plenior // The Catholic Biblical Quarterly. Vol. 15, No. 2 (April, 1953). P. 157–158.], полагающих, что такое предположение делает библейского пророка похожим на греческую пифию, указанная идея в принципе не кажется нам невероятной, особенно применительно к апокалиптическим текстам. Прямые подтверждения этому мы можем обнаружить уже в книге Даниила. В Дан 7 пророк говорит, что «вострепетал дух во мне <…> и видения головы моей смутили меня» (Дан 7, 15). В 8 главе говорится о том, что Даниил «искал значения» своего видения (Дан 8, 15), а в 12 главе Даниил прямо говорит, что «не понял» смысл разговора «двух святых» (Дан 12, 8). Разумеется, все эти тексты могут быть поняты только как литературная условность, тем более что значение видения каждый раз объясняется пророку angelus interpres. С другой стороны, вполне возможно, что здесь перед нами предстают описания реального опыта авторов псевдоэпиграфических сочинений, вынужденных задумываться о значении своих видений. Не менее интересно и то, что книга Даниила сама дает нам пример поиска sensus plenior в библейском тексте: так, пророк Даниил размышляет над пророчеством Иеремии о 70 годах плена (Дан 9, 2) и получает откровение архангела Гавриила о том, что Израилю предназначено не 70 лет, а 70 семилетий иноземного владычества (Дан 9, 24).
Еще один важный аргумент, подтверждающий то, что книга Даниила имеет sensus plenior, следует из традиции ее интерпретации. В Новом Завете, в многочисленных иудейских и христианских толкованиях мы наблюдаем постоянные попытки соотнести содержание книги Даниила с событиями, происходившими уже после завершения Маккавейских войн. Отдельные толкования, не предполагавшиеся автором книги Даниила (например, отождествление четвертого языческого царства с Римом), стали общим местом в иудейской и христианской традиции уже в античную эпоху. Исходя из этого мы можем заключить, что книга Даниила вполне соответствует центральному критерию, служащему для выявления sensus plenior в ветхозаветных текстах, – наличию свидетельства экзегетической традиции.
Каким образом в книге Даниила соотносятся буквальный смысл текста и sensus plenior? Очевидно, что буквальный смысл пророчеств, излагаемых автором, вне всякого сомнения непосредственно связан с его эпохой (в случае книги Даниила – с гонениями Антиоха и Маккавейскими войнами). Тем не менее содержащийся в канонических текстах sensus plenior может указывать на совершенно другие, гораздо более отдаленные исторические события, о которых автор не имел никакого сознательного представления. Выявление подобного смысла и является наиболее сложной и принципиальной задачей богословской экзегетики книги Даниила. Мы уже привели два критерия, которые традиционно используются для выявления sensus plenior: свидетельство канонических текстов и церковной традиции и взаимосвязь между sensus plenior и буквальным смыслом, подразумевавшимся человеческим автором. Оба указанных критерия будут последовательно использоваться нами при написании толкования книги Даниила. Однако эти критерии явно недостаточны для плодотворной богословской работы по обнаружению sensus plenior в пророческих и апокалиптических текстах Священного Писания.
Вопрос о выявлении и последующей верификации sensus plenior в пророческих текстах Священного Писания стоит в тесной связи с вопросом об общих принципах интерпретации библейских пророчеств. Некоторые христианские авторы XX-XXI веков пытались установить общие критерии толкования библейских пророчеств. Среди них можно назвать таких протестантских исследователей как Р. Гёдлстоун[77 - Girdlestone Robert B. The Grammar of Prophecy: A Systematic Guide to Biblical Prophecy. Grand Rapids, 1955.], Б. Микельсен[78 - Mickelsen A. Berkley. Interpreting the Bible. Grand Rapids, 1972.], Б. Рамм[79 - Ramm Bernard. Protestant Biblical Interpretation. A Textbook of Hermeneutics. Micihigan, 1970. P. 241–275.], В. Кайзер[80 - Kaiser Walter C. Back Toward the Future: Hints for Interpreting Biblical Prophecy. Eugene, 2003.]. В числе принципов, необходимых любому толкователю библейских пророчеств, они отмечают тщательное изучение текста изучаемого пророчества, его исторического контекста, предостерегают против натянутых толкований, возражают как против чрезмерной аллегоризации библейских пророчеств, так и против чрезмерного буквализма, игнорирующего образный язык пророческих книг. Указанные авторы достаточно критически относятся к концепции sensus plenior, в то же время предлагая теорию «множественного исполнения» или «двойного исполнения» (multiply fulfilment/double fulfilment), которая по сути мало чем отличается от того же sensus plenior – вместо нескольких смыслов пророчества они говорят о его нескольких исполнениях, зачастую относящихся к Ветхому и Новому Завету. К сожалению, почти все эти авторы крайне консервативны и по этой причине игнорируют достижения историко-критического метода. В результате такие принципиальные вопросы как использование псевдоэпиграфии в библейской литературе, пророчество ex eventu и историческая достоверность тех или иных событий, описанных в Священном Писании, остаются вне их поля зрения. Кроме того, всем этим авторам присущ конфессиональный евангелистский подход, диктующий сосредоточенность на проблематике, интересующей представителей этого направления протестантизма.
На наш взгляд, еще одним серьезным недостатком работ всех описанных христианских богословов является то, что зачастую они делают основной акцент в изучении библейских пророчеств на новозаветных исполнениях ветхозаветных пророчеств. При этом тема раскрытия действия Бога в мировой истории, принципиальная для такого произведения, как книга Даниила, либо рассматривается в недостаточной степени, либо вовсе игнорируется. Указанная проблематика тесно связана с многовековой полемикой между различными школами в толковании библейских пророчеств: претеристами, историцистами и футуристами. Если первые полагают, что большая часть библейских пророчеств исполнилась в древности, в новозаветную эпоху, то для последних их исполнение еще предстоит в будущем, в эпоху эсхатологическую. К современным историческим реалиям, применительно к которым библейские пророчества обсуждаются в современном протестантском богословии, в первую очередь относится судьба Израиля, породившая длительную полемику между сторонниками диспенсационализма и «христианского сионизма» и их критиками: если для первых создание еврейского государства служит поворотным пунктом, знаменующим начало эсхатологического периода, то для вторых оно не имеет специального религиозного значения. Невозможно сомневаться в важности этой темы для современного христианского и иудейского богословия, однако ограничивать изучение отношения библейских пророчеств к современности только этой темой также представляется некорректным. Тем более это справедливо по отношению к книге Даниила, для автора которой был характерен интерес к истории всего известного ему цивилизованного мира. Вслед за великими богословами Средневековья и Нового Времени мы подойдем к рассмотрению книги Даниила с позиций историцизма – ее рассмотрения как божественного свидетельства о действии Бога на всем протяжении мировой истории.
Примечательная мысль относительно толкования пророчеств принадлежит русскому философу А.Ф. Лосеву: «Другими словами, судить о том, как должно исполниться пророчество, можно только по наступлении того события, которое предречено. Полностью о пророчестве можно судить, таким образом, только после его исполнения. Скажут: зачем же тогда существует пророчество? Пророчество существует для того, чтобы установить смысл грядущих времен, а не их факты. Поэтому все толкования должны ограничиться установлением только точного смысла событий, а не их фактического протекания»[81 - Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2001. С. 221.]. Именно по этой причине в нашем толковании мы говорим только о прошлых событиях, то есть об уже исполнившихся предсказаниях книги Даниила. Основным принципом нашего толкования станет последовательное обнаружение sensus plenior, вложенного в текст Божественным автором пророческой книги. В качестве рабочих принципов могут быть указаны следующие:
1. Проверка соответствия предложенных нами толкований пророчеств книги Даниила достоверно установленным историческим событиям – принцип, который, по нашему мнению, является важнейшим при толковании пророческих книг. При этом историческое событие, рассматриваемое нами в качестве исполнения библейского пророчества, должно быть уникальным по точности своего соответствия рассматриваемому нами библейскому тексту. Этот факт важен в первую очередь для того, чтобы отличить истинный sensus plenior от многочисленных примеров аккомодации – очевидно, что то или иное пророчество может быть применено к самым разным ситуациям, и только уникальное соответствие между пророчеством и историческим событием позволяет говорить о том, что мы обнаружили скрытый в пророчестве смысл. Применительно к толкованию книги Даниила эта задача упрощается наличием в ней целого ряда хронологических указаний – если мы сможем найти убедительную корреляцию как между содержанием тех или иных событий и повествованием книги Даниила, так и их хронологией и числовыми указаниями книги Даниила, мы с большой долей уверенности можем говорить о неслучайности подобных соответствий. Еще одной принципиальной чертой библейских пророчеств должна, по нашему мнению, быть значимость содержащихся в них исторических указаний. Логично было бы предполагать, что их исполнение должно быть связано со значительными и судьбоносными историческими событиями, имеющими принципиальный характер для мировой или, по крайней мере, еврейской или христианской истории.
2. Наличие смысловой аналогии между буквальным смыслом, вложенным в текст автором книги Даниила, и sensus plenior, постулируемым в нашем исследовании. О важности подобного принципа говорили все исследователи sensus plenior, и этот принцип будет последовательно использоваться нами на протяжении нашей работы.
3. Существование предлагаемого нами толкования в традиционных иудейских и христианских источниках. Данный принцип также является одним из основных в предлагаемых P. Брауном принципах верификации sensus plenior. По нашему мнению, он не представляется столь важным как два принципа, указанные нами выше, однако все-таки имеет существенное значение.
4. Существование других библейских пророчеств, толкование которых становится более логичным и ясным в свете предложенного нами толкования книги Даниила. Данный принцип также выделяется в качестве одного из наиболее принципиальных целым рядом исследователей библейских пророчеств[82 - Ramm Bernard. Op. cit. P. 249–250.]. Мы также будем последовательно использовать этот принцип при толковании книги Даниила. Тем не менее мы преимущественно ограничимся двумя ветхозаветными произведениями, тесно связанными с книгой Даниила – книгой Иезекииля и книгой Исаии. Причиной подобного подхода станет в первую очередь тесная литературная и тематическая связь между указанными сочинениями, логично предполагающая взаимосвязь между предсказанными ими событиями, и необходимость ограничить себя разбором очень ограниченного числа библейских пророчеств, не принадлежащих книге Даниила.
Мы нисколько не претендуем на формулирование общих принципов толкования библейских пророчеств – попытка решения подобной задачи безусловно потребовала бы написания отдельной монографии. В данном случае мы только формулируем основные принципы, которыми мы будем руководствоваться при написании комментария на пророчества книги Даниила.
Толкование священного писания. «Духовное толкование»: аллегория и типология
Пророчества и особенно апокалиптические видения сами по себе являются текстами, указывающими на будущие события и зачастую имеющими загадочный и аллегорический характер. Однако уже в древности зародился способ прочтения Священного Писания, рассматривающий весь его текст как таинственное повествование, в котором буквальный смысл составляет лишь малую часть божественного послания – аллегорический метод толкования Священного Писания.
Его происхождение связано с эллинистическими влияниями на еврейскую традицию. В Древней Греции традиция комментирования классических текстов возникла не позднее VI века до н.э. Наиболее примечательным изобретением древнегреческих авторов стала традиция аллегорической интерпретации мифологических сюжетов. В ней мифологические образы и сюжеты получали трактовку как образы, за которыми скрывается тот или иной философский, этический или космологический смысл. Причиной ее возникновения во многом послужила необходимость объяснить образованным грекам появление в классических поэтических текстах – в первую очередь сочинениях Гомера и Гесиода – описаний поступков богов, которые представляются нам не вполне этичными или уместными для людей, но не небожителей. Присутствие в «Илиаде» или «Теогонии» рассказов о ссорах между богами и их участии в земных войнах побуждало греков классической эпохи либо отрицать их как выдумки недостаточно благочестивых поэтов (такую позицию мы, в частности, находим у Платона), либо попытаться найти в них скрытый аллегорический смысл. С другой стороны, высокий престиж эпических поэм побуждал представителей религиозных и философских кругов искать в них подтверждение развиваемым ими идеям и концепциям[83 - Lamberton Robert. Homer the Theologian. Neoplatonist Allegorical Reading and the Growth of the Epic Tradition. Berkeley-Los Angeles-London, 1989. P. 15.]. По утверждению философа-неоплатоника Порфирия аллегорическое толкование мифов было впервые предложено неким Теагеном из Регия, который толковал описываемые Гомером конфликты и битвы между богами как описание взаимодействия между различными стихиями мироздания (огонь, вода, воздух, земля) или свойствами человеческой души. Подобные подходы получили наименование физической и психологической аллегории. В дальнейшем арсенал сторонников аллегорического толкования мифов обогатился другими методами и системами их классификации: так, стоики различали физическую и этическую аллегорию.
Хочется отметить, что многие из аллегорических интерпретаций мифов не были наивными и необоснованными, как это может показаться на первый взгляд: во многом они представляли собой попытку перевода понятий и образов мифологического мышления на рациональный язык. В этом плане многие древнегреческие аллегорические толкования мифов вполне могут быть сопоставлены с научными теориями Нового Времени (солярной теорий, структурализмом и др.)[84 - Обзор литературы, рассматривающей подобные параллели, см. в Whitman Jon. Interpretation and Allegory: Antiquity to the Modern Period. Leiden-Boston-K?ln, 2000. P. 37.]. Уже этот факт заставляет нас предположить, что аллегорическая интерпретация далеко не во всех случаях является эйсегезой (????????? – ‘введение’), попыткой «вчитывания» в текст чуждых ему понятий[85 - Десницкий А.С. Введение в библейскую экзегетику. М., 201 1. С. 22–25, 106.].