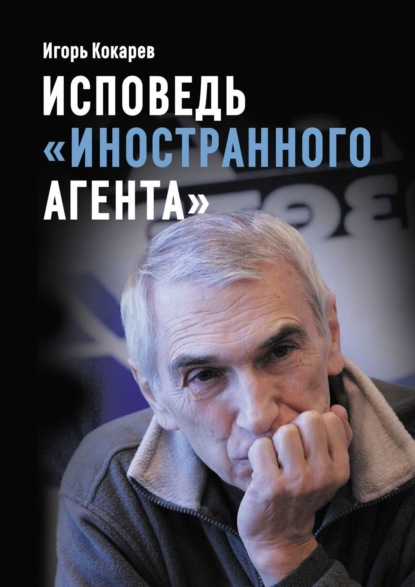По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я слушаю сладчайшую мелодию: «Звезда моя, краса моя, ты лучшая из женщин…» и вдруг понимаю, что Наташа говорит музыкой отца что-то важное. Ей, далекой от сентиментальности, так было, наверное, легче сказать о своих чувствах. Мне сейчас кажется, именно этот момент соединил нас на много лет. Нам было по 25, и родились мы с ней в один год, в один месяц и один день…
Я еще долго буду озираться вокруг себя, как бы запоминая дорогу своей второй жизни. Москва, ВГИК, Наташа – это впечатления посильней заграничных. Там, в тех рейсах, по чужим городам мы как по музеям ходили. Но всегда возвращались домой. А сейчас здесь, в Москве, стало быть, мой дом? Трудно привыкнуть. Так и не привык.
Тридцать лет выпало жить в доме, куда запросто входила великая, спокойно несущая свою славу первой певицы мира Мария Калас, где сыпал анекдотами легендарный Мстислав Ростропович с надменной Галиной Вишневской, где сидела рядом Лина Ивановна, худенькая подвижная, многострадальная вдова композитора Прокофьева, мать его двоих детей. В этом доме она как член семьи. Когда Лина Ивановна вернулась из заключения, ТНХ выхлопотал ей пенсию и квартиру из фондов Союза композиторов. Прокофьев был его кумиром, и лично заботиться о Лине Ивановне он считал своим долгом. Меня она поразила тем, что однажды, поставив рядом два стула спинками друг к другу, оперлась на них прямыми руками и подняла стройные ножки в прямой угол:
– А ты так сможешь, молодой человек?
Ей 70 и лагеря за спиной, мне едва тридцать и я гимнаст. Ей мой угол нравится. Ей вообще нравятся молодые люди. И это помогает мне освоиться.
Одним из первых, проявивших внимание к залетной птице, был автор песни «Пусть всегда будет солнце» Аркадий Ильич Островский. О таких говорят, душевный человек. Он, когда-то начинавший в оркестре Утесова, на всю жизнь остался, что называется, своим в доску. Чувствуя мое смущение, он подбадривал:
– Чего ты робеешь? Мы же не министры какие-то! Мы лабухи, нормальные люди. Не дрефь, моряк, все будет хорошо!
В день свадьбы мы случайно встретились в Елисеевском гастрономе на Горького. Аркадий Ильич подошел, подсказал, какую ТНХ любит ветчину и приобнял, как бы благословляя на новую жизнь.
Он ушел первым. Через несколько быстрых лет скончается Аркадий Ильич в сочинской больнице. Он войдет в море веселым и беззаботным, в воде случился приступ язвы с обильным кровотечением, и врачи уже не смогут его спасти. Остался его приемный сын, наш друг и большой ученый Миша Островский со своей Раей.
Еще один добрый человек – Леонид Борисович Коган. Маленький, слегка сутулый, при улыбке зубы впереди губ, улыбается первым. Глаза смеются, ласковые. Со скрипкой, женой и двумя прелестными детьми Ниной и Павликом никогда не расстается, они приходят все вместе. В черном потертом футляре скрипка. Гварнери, однако. Тихон отстраненно слушал его восторженные рассказы про то, как классно самому за рулем катить через всю Европу в Рим на три дня ради одного концерта.
Да, его выпускали. И в Рим, и в Париж, и в Бостон, Чикаго, Мадрид, Токио. Гражданин мира. Он видел мир, как свой дом и очень дорожил этой привилегией. Но по-детски всю жизнь боялся, что его кто-то как-то почему-то может лишить этого счастья. Великий скрипач, он признавался, как волнуется перед каждым концертом, играя и старые, и только что выученные произведения.
Мы любили встречать Новый Год у них в Архангельском. Снег хрустит под шинами, въезжаем во двор дачи часам к одиннадцати. Длинный, от стены до стены стол, густо уставленный салатами, ветчиной, икрой, прочими вкусностями. И обязательный сюрприз – новогодняя страшилка из уст друга семьи замминистра юстиции СССР Николая Александровича Осетрова. Юрист умел рассказать неизвестные истории о страшных преступлениях так, что жевать за столом переставали. Например, как один из братьев Запашных, знаменитых дрессировщиков советского цирка, зарезал свою красавицу жену, долго членил ее на части, сложил их в чемоданы, спрятал под кровать и, рыдая, позвонил в милицию…
– Вот что ревность делает с человеком, – закончил Николай Александрович как раз к полночи.
После звона бокалов и криков ура иностранное кино в домашнем кинотеатре. Что-то с участием Симоны Синьоре и Ива Монтана – недавний подарок звездной пары.
Ближний круг семьи Хренниковых просто не мыслим без этой талантливой и трогательно беспомощной семьи. Но однажды внезапно и непредсказуемо придет та трагическая декабрьская ночь 1982 года. Под утро раздастся телефонный звонок, сдавленный голос Лизы звучит глухо:
– Тихон, Леня… только что звонили… Он где-то на станции… между Москвой и Клином… что делать?… кто?… как найти?…
Тихон Николаевич смотрит на меня. Я киваю головой и быстро одеваюсь. Несусь в темноте вдвоем с другом семьи вдоль путей электрички. На замызганной станции темно и пусто. Подслеповатая лампочка без плафона освещает маленькое смятое тело, вытащенное кем-то из вагона на каменную скамейку. Черные брюки расстегнуты, белая рубашка растерзана на груди, уже холодные руки с тонкими нервными пальцами свисают в одну сторону, как-то отдельно от тела. Никто. Труп на ночном полустанке. Ни души вокруг. Застывшее в муке лицо. Бомж? Нищий? Великий музыкант. Под лавкой – черный футляр. Гварнери…
Тогда я еще не ведал, что параллельно с моей новой жизнью существовал в Москве полуподпольный мир богемы из диссидентствующих художников, поэтов, артистов, осколков творческой интеллигенции, за которыми зорко присматривали соответствующие люди в штатском. Таланты предпочитали работать дворниками и кочегарами, писать в стол, круто пить и развратничать, но не изменять себе. К моему появлению в Москве уже не было легендарного Саши Асаркана, который бы точно ввел, втащил бы меня к ним. Мы с Наташей знавали Льва Прыгунова, красивого актера и обаятельного человека, но не знали, что он мыкался по съемным коммуналкам и был вхож не только вверх, но и вниз. Впрочем, где верх, где низ, каждый выбирал сам. Мне этот мир выпавших из советского общества одаренных антисоветчиков, что собирался в ночных буфетах гостиниц «Националь» и «Украина», в частных квартирах и салонах художников, продающих свои странные картины иностранцам, был просто не знаком.
Я знал других, успешных. И рассматривая их вблизи с открытым, но молчащим ртом, испытывал восторг и разочарование. Привыкший лидерствовать, спорить на острые темы среди горячих, но легких голов, какую беспечно носил сам, я оказался среди гениев, которые в быту и рядом не стояли рядом с теми шедеврами, по которым их знал мир. Где прячется эта гениальность, когда художник жует колбасу, храпит во сне, бранится с женой, сплетничает о коллегах или боится вслух сказать, что думает?
Всматривался, прислушивался к каждому слову, ища в их частной жизни, в разговорах между собой и в оброненных невзначай фразах ответы на свои вопросы. И не находил.
И еще мне, профану, ужасно хотелось понять тайну творчества, увидеть, как рождаются мелодии и образы, и вообще, откуда оно, творчество это, черпает себя. И может ли родиться шедевр по заданию, например, Министерства культуры? Я с этим приставал к ТНХ, пока он не рассказал смешную историю. Однажды в доме творчества во время обеда к Шостаковичу подсел его поклонник и спросил, поедая глазами своего кумира:
– Дорогой Дмитрий Дмитриевич, откройте, ну, как вам удается писать такую гениальную музыку? Шостакович остановил ложку у рта и ответил невозмутимо:
– Сейчас. Доем и открою.
Талант – как деньги, говорил Шолом Алейхем, – или он есть или его нет. Неправда. Вот, если деньги есть, но их мало, то как? Так и с талантом. Мне иногда казалось, я все могу. А чаще, какой же я дурак. Дурачок, городской сумасшедший. Чего к людям пристаешь? А потом говорил себе, ничего, я же учусь. И радуйся, что есть у кого.
Первый урок, кстати, преподала Наташа. Увидела, как я окинул привычным взглядом красивую девчонку за прилавком, и тут же – раз! – и, как кошка, ногтями по щеке: не засматривайся! Я покраснел, смолчал виновато, а кровавые полосы остались, напоминая, чья я теперь собственность. Нет, Наташа. Я люблю тебя. Но мне нравятся женщины…
ТНХ интересовался моими первыми статьями во вгиковские сборники. Полистал как-то, вернул:
– Не пиши умно, пиши просто. Если не дурак, получится.
С тестем
Я помалкивал, а про себя думал, что он понимает в социологии? Оказалось, социология тут ни при чем. Он знал что-то большее и подсказывал ненавязчиво. Деликатный человек.
Хотя украинское словечко приймак, оно и в России приймак. Царапины на самолюбии возникают неожиданно. Наташа уже отдавила мне ногу под столом: оставь свои одесские шуточки! Прощай, одесское острословие. Дневник я тоже забросил. Что слово мое? Это сестра моя училась в одесской консерватории, а я в спортзал ходил, кольца, брусья, турник… Понять, почему неправильные аккорды Прокофьева – это гениальное новаторство, или как Шостакович выразил время, еще можно. Но представить, что с одного прослушивания можно повторить наизусть целую симфонию? А вот этот тщедушный мальчик, Павлик Коган может. Потому что он из такой семьи или это поцелуй Бога? Меня, видно, никто не целовал…
Сосед наш Володя, глядя на мою, еще не старую, но стоптанную обувь как-то сказал:
– Знаешь что надо, чтобы туфли были всегда как новые?
– Ну, и что же? – спросил я, задетый замечанием.
– Надо иметь несколько пар – для города, для дачи, для работы, для выхода, для лета, для осени, для зимы. И носить соответственно. Вот как у меня. – И он показал полку с обувью… Важный совет.
Полутемный коридор с нанизанными на него комнатами: справа кухня, спальня, детская. Слева гостиная с длинным столом и кабинет, едва вмещающий диван, стол, шкаф и рояль. Коридор тесен, он завален до потолка книгами, нотами, журналами. Еда простая: сосиски, яйцо всмятку, чай с лимоном. Обед из спецстоловой в алюминиевых судках: суп протертый, котлеты, тефтели с гречкой, компот. ТНХ пуще всех деликатесов любил чайную колбасу.
И было мне поручение – ездить с шофером в Дом на набережной за едой. Специальной книжечкой с талонами снабжали членов ЦК и депутатов Верховного Совета. Причем, разные они были. Наша – самого нижнего уровня. Подороже, и по ней не все продукты шли. Но и того, что можно, достаточно: и красная – черная икра, и балык, и ветчина, и карбонат, и чайная колбаса с чесноком, и угорь… Но мы брали обычный обед – суп протертый, котлеты, компот. Зато полные судки на один талон. Для гостей.
В квартире на Миусах. Что-то маловато сегодня за столом. Обычно народу больше. А моя правая в гипсе, сломал палец на тренировке.
За большим всегда раздвинутым столом гости. Хозяева не едят в одиночестве. Сидят за полночь, шутят шумно, но без алкоголя. То и дело звонит телефон. Он у Тихона под рукой. Вон, виден на фото. ТНХ обожал еврейские, армянские анекдоты, хохотал звонко, от души. В отличие от Шостаковича, который, помню, ни разу даже не улыбнулся на спектакле Аркадия Райкина для членов Комитета по Сталинским премиям. Райкин по этому поводу страшно переживал, вдруг премию не дадут. А я смотрел тогда и думал: вот гений музыки, тончайших чувств властитель, а человек неуживчивый, колючий… Или просто другой?
О жизни, о философии, о литературе, о политике во время тех застолий – ни слова. Я представлял себе, как неприлично прозвучали бы здесь мои вопросы, да и любая тема из газет, например.
– Ну, и что? – говорил я сам себе. Художник высказывается в своем творчестве. Зачем ему подвергать себя опасности за пределами его, так сказать, профессиональной компетентности? Они это уже проходили, научены, как себя вести в приличном обществе. В конечном счете, художника судит история по его произведениям, так что можно и помолчать. И просто набраться терпения…
Вспоминаю, кто ж сидел за тем длинным столом в разное время? Ну, старшая сестра Клары, бывшая актриса немого кино тетя Маня, практически жившая в доме. Высокий, худой, капризный брат дядя Миша, красный партизан из конницы Буденного, известный в Москве коллекционер марок. Рассказывает театральные новости и подыскивает по ходу разговора рифмы давний друг семьи, не имеющий возраста поэт и актер театра Советской армии, автор текстов к опереттам ТНХ Яков Халецкий. Он влюблен всю жизнь в Клару. По праздникам приходят важный Серафим Туликов, ироничный Оскар Фельцман.
С его сыном Володей, по весне полетим в Сочи. Он сбегал туда от весенней аллергии, а я в сочинский «Спутник» с лекциями. Запомнится это веселое путешествие его остротами, в котором проступали черты одессита. Володя, однако, скоро попадет в отказники и просидит почти 10 лет без концертов, разучивая дома репертуар мировой классики. Потом его примет в Белом Доме президент США, и пианист Владимир Фельцман сделает успешную исполнительскую карьеру. Рафинированный, изысканный и недоступный, он уединится под Нью-Йорком в доме в лесу, где бродят олени. Через сорок лет мы встретимся с ним на его гастролях в Лос-Анджелесе, и он меня не узнает. Потом пришлет коллекцию своих записей с теплой надписью…
Лето, когда родился Андрей, проходило на даче, на Николиной горе. Старый, кренившийся деревянный дом, купленный Тихоном у бывшего министра высшего образования СССР Каюрова, не торопясь, чинил Полин брат, алкаш с золотыми руками. «Крючок» звали его заглаза, таким он был весь скрюченным и невзрачным. Клара свозила на дачу в сторожку тюками, коробками, ящиками старые журналы и газеты. В сыром подвале стояли забытые всеми банки с разными солениями и вареньем. Сад, в котором когда – то были высажены десятки редких пород цветов, кустарников и плодовых деревьев, быстро дичал. Я как-то взялся за подступившую к самому дому бузину. Клара, приехавшая из города с очередным тюком, раз и навсегда поставила на место:
– Не твое, не трожь!
Спорить я не стал. И правда, не мое. Хотя можно было бы и не тыкать носом. Я вообще дачу, лес, грибы и всю эту северную экзотику в гробу видал. Мне б горячий песок да ласковое море до горизонта.
Полюбились лишь три сросшиеся, как сестры, молоденькие березки справа у крыльца. Они будут расти вместе с сыном, которого мы уже ждали. Но, спустя годы и годы, вступив во владение дедовским наследством, взрослый уже Андрей их спилит, не ведая, что творит. Почему-то станет особенно больно от того, что он даже никого не спросит. Я увижу осиротевшее, голое крыльцо, и семья окончательно уйдет-уплывет куда-то за голубой горизонт, чтобы уже никогда не вернуться. Это случится позже, почти тридцать лет спустя. А пока…
Округлившаяся Наташа пишет с балкона пейзажи вплотную подступающих к даче теплых, рыжих в лучах солнца высоченных сосен. Ходим на речку, песчаный пятачок у подножья Николиной горы, там роятся мелкие и средние дети известных родителей. За нашим забором – дача Ботвинника, чемпиона мира по шахматам, дальше имение Михалковых, где на обширной территории за высоким забором плодились дачки многочисленного семейства, за поворотом – дача гостеприимной пары знаменитых песенников Пахмутовой и Добронравова, на задах – комсомольская дача, где Павлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, ходил по двору и стрелял от нечего делать из ружья галок. Правда, почти через полвека его дочь, нашедшая меня на фейсбуке объяснит, что это папа учил ее стрелять. По бутылкам.
Иногда к Михалковым наезжал Слава Овчинников. Автор музыки к фильму Бондарчука «Война и мир» – талант и разгильдяй в одном флаконе, любил бродить ночами вокруг дома и пугать беременную Наташу длинными завываниями в кромешной темноте:
– Ната-а-а-ша-а-а! А-у-у-у!..
Говорят, он вот так, шутя и играя, соблазнил юную японскую скрипачку – вундеркинда Йоко Сато, учившуюся в Московской консерватории. Ее привез из Японии Тихон Николаевич как редкую птицу. Она и была такой, всегда готовой взлететь и исчезнуть. А Слава… Что с него взять? Шалопай. Может, сам и распускал такие слухи. Я же ощущал за его вечной бравадой желанную свободу от всяческих шор, включая, я думаю, и от идеологических и от нравственных. Хорошо, что он реализовался в музыке, а не в политике…
Я еще долго буду озираться вокруг себя, как бы запоминая дорогу своей второй жизни. Москва, ВГИК, Наташа – это впечатления посильней заграничных. Там, в тех рейсах, по чужим городам мы как по музеям ходили. Но всегда возвращались домой. А сейчас здесь, в Москве, стало быть, мой дом? Трудно привыкнуть. Так и не привык.
Тридцать лет выпало жить в доме, куда запросто входила великая, спокойно несущая свою славу первой певицы мира Мария Калас, где сыпал анекдотами легендарный Мстислав Ростропович с надменной Галиной Вишневской, где сидела рядом Лина Ивановна, худенькая подвижная, многострадальная вдова композитора Прокофьева, мать его двоих детей. В этом доме она как член семьи. Когда Лина Ивановна вернулась из заключения, ТНХ выхлопотал ей пенсию и квартиру из фондов Союза композиторов. Прокофьев был его кумиром, и лично заботиться о Лине Ивановне он считал своим долгом. Меня она поразила тем, что однажды, поставив рядом два стула спинками друг к другу, оперлась на них прямыми руками и подняла стройные ножки в прямой угол:
– А ты так сможешь, молодой человек?
Ей 70 и лагеря за спиной, мне едва тридцать и я гимнаст. Ей мой угол нравится. Ей вообще нравятся молодые люди. И это помогает мне освоиться.
Одним из первых, проявивших внимание к залетной птице, был автор песни «Пусть всегда будет солнце» Аркадий Ильич Островский. О таких говорят, душевный человек. Он, когда-то начинавший в оркестре Утесова, на всю жизнь остался, что называется, своим в доску. Чувствуя мое смущение, он подбадривал:
– Чего ты робеешь? Мы же не министры какие-то! Мы лабухи, нормальные люди. Не дрефь, моряк, все будет хорошо!
В день свадьбы мы случайно встретились в Елисеевском гастрономе на Горького. Аркадий Ильич подошел, подсказал, какую ТНХ любит ветчину и приобнял, как бы благословляя на новую жизнь.
Он ушел первым. Через несколько быстрых лет скончается Аркадий Ильич в сочинской больнице. Он войдет в море веселым и беззаботным, в воде случился приступ язвы с обильным кровотечением, и врачи уже не смогут его спасти. Остался его приемный сын, наш друг и большой ученый Миша Островский со своей Раей.
Еще один добрый человек – Леонид Борисович Коган. Маленький, слегка сутулый, при улыбке зубы впереди губ, улыбается первым. Глаза смеются, ласковые. Со скрипкой, женой и двумя прелестными детьми Ниной и Павликом никогда не расстается, они приходят все вместе. В черном потертом футляре скрипка. Гварнери, однако. Тихон отстраненно слушал его восторженные рассказы про то, как классно самому за рулем катить через всю Европу в Рим на три дня ради одного концерта.
Да, его выпускали. И в Рим, и в Париж, и в Бостон, Чикаго, Мадрид, Токио. Гражданин мира. Он видел мир, как свой дом и очень дорожил этой привилегией. Но по-детски всю жизнь боялся, что его кто-то как-то почему-то может лишить этого счастья. Великий скрипач, он признавался, как волнуется перед каждым концертом, играя и старые, и только что выученные произведения.
Мы любили встречать Новый Год у них в Архангельском. Снег хрустит под шинами, въезжаем во двор дачи часам к одиннадцати. Длинный, от стены до стены стол, густо уставленный салатами, ветчиной, икрой, прочими вкусностями. И обязательный сюрприз – новогодняя страшилка из уст друга семьи замминистра юстиции СССР Николая Александровича Осетрова. Юрист умел рассказать неизвестные истории о страшных преступлениях так, что жевать за столом переставали. Например, как один из братьев Запашных, знаменитых дрессировщиков советского цирка, зарезал свою красавицу жену, долго членил ее на части, сложил их в чемоданы, спрятал под кровать и, рыдая, позвонил в милицию…
– Вот что ревность делает с человеком, – закончил Николай Александрович как раз к полночи.
После звона бокалов и криков ура иностранное кино в домашнем кинотеатре. Что-то с участием Симоны Синьоре и Ива Монтана – недавний подарок звездной пары.
Ближний круг семьи Хренниковых просто не мыслим без этой талантливой и трогательно беспомощной семьи. Но однажды внезапно и непредсказуемо придет та трагическая декабрьская ночь 1982 года. Под утро раздастся телефонный звонок, сдавленный голос Лизы звучит глухо:
– Тихон, Леня… только что звонили… Он где-то на станции… между Москвой и Клином… что делать?… кто?… как найти?…
Тихон Николаевич смотрит на меня. Я киваю головой и быстро одеваюсь. Несусь в темноте вдвоем с другом семьи вдоль путей электрички. На замызганной станции темно и пусто. Подслеповатая лампочка без плафона освещает маленькое смятое тело, вытащенное кем-то из вагона на каменную скамейку. Черные брюки расстегнуты, белая рубашка растерзана на груди, уже холодные руки с тонкими нервными пальцами свисают в одну сторону, как-то отдельно от тела. Никто. Труп на ночном полустанке. Ни души вокруг. Застывшее в муке лицо. Бомж? Нищий? Великий музыкант. Под лавкой – черный футляр. Гварнери…
Тогда я еще не ведал, что параллельно с моей новой жизнью существовал в Москве полуподпольный мир богемы из диссидентствующих художников, поэтов, артистов, осколков творческой интеллигенции, за которыми зорко присматривали соответствующие люди в штатском. Таланты предпочитали работать дворниками и кочегарами, писать в стол, круто пить и развратничать, но не изменять себе. К моему появлению в Москве уже не было легендарного Саши Асаркана, который бы точно ввел, втащил бы меня к ним. Мы с Наташей знавали Льва Прыгунова, красивого актера и обаятельного человека, но не знали, что он мыкался по съемным коммуналкам и был вхож не только вверх, но и вниз. Впрочем, где верх, где низ, каждый выбирал сам. Мне этот мир выпавших из советского общества одаренных антисоветчиков, что собирался в ночных буфетах гостиниц «Националь» и «Украина», в частных квартирах и салонах художников, продающих свои странные картины иностранцам, был просто не знаком.
Я знал других, успешных. И рассматривая их вблизи с открытым, но молчащим ртом, испытывал восторг и разочарование. Привыкший лидерствовать, спорить на острые темы среди горячих, но легких голов, какую беспечно носил сам, я оказался среди гениев, которые в быту и рядом не стояли рядом с теми шедеврами, по которым их знал мир. Где прячется эта гениальность, когда художник жует колбасу, храпит во сне, бранится с женой, сплетничает о коллегах или боится вслух сказать, что думает?
Всматривался, прислушивался к каждому слову, ища в их частной жизни, в разговорах между собой и в оброненных невзначай фразах ответы на свои вопросы. И не находил.
И еще мне, профану, ужасно хотелось понять тайну творчества, увидеть, как рождаются мелодии и образы, и вообще, откуда оно, творчество это, черпает себя. И может ли родиться шедевр по заданию, например, Министерства культуры? Я с этим приставал к ТНХ, пока он не рассказал смешную историю. Однажды в доме творчества во время обеда к Шостаковичу подсел его поклонник и спросил, поедая глазами своего кумира:
– Дорогой Дмитрий Дмитриевич, откройте, ну, как вам удается писать такую гениальную музыку? Шостакович остановил ложку у рта и ответил невозмутимо:
– Сейчас. Доем и открою.
Талант – как деньги, говорил Шолом Алейхем, – или он есть или его нет. Неправда. Вот, если деньги есть, но их мало, то как? Так и с талантом. Мне иногда казалось, я все могу. А чаще, какой же я дурак. Дурачок, городской сумасшедший. Чего к людям пристаешь? А потом говорил себе, ничего, я же учусь. И радуйся, что есть у кого.
Первый урок, кстати, преподала Наташа. Увидела, как я окинул привычным взглядом красивую девчонку за прилавком, и тут же – раз! – и, как кошка, ногтями по щеке: не засматривайся! Я покраснел, смолчал виновато, а кровавые полосы остались, напоминая, чья я теперь собственность. Нет, Наташа. Я люблю тебя. Но мне нравятся женщины…
ТНХ интересовался моими первыми статьями во вгиковские сборники. Полистал как-то, вернул:
– Не пиши умно, пиши просто. Если не дурак, получится.
С тестем
Я помалкивал, а про себя думал, что он понимает в социологии? Оказалось, социология тут ни при чем. Он знал что-то большее и подсказывал ненавязчиво. Деликатный человек.
Хотя украинское словечко приймак, оно и в России приймак. Царапины на самолюбии возникают неожиданно. Наташа уже отдавила мне ногу под столом: оставь свои одесские шуточки! Прощай, одесское острословие. Дневник я тоже забросил. Что слово мое? Это сестра моя училась в одесской консерватории, а я в спортзал ходил, кольца, брусья, турник… Понять, почему неправильные аккорды Прокофьева – это гениальное новаторство, или как Шостакович выразил время, еще можно. Но представить, что с одного прослушивания можно повторить наизусть целую симфонию? А вот этот тщедушный мальчик, Павлик Коган может. Потому что он из такой семьи или это поцелуй Бога? Меня, видно, никто не целовал…
Сосед наш Володя, глядя на мою, еще не старую, но стоптанную обувь как-то сказал:
– Знаешь что надо, чтобы туфли были всегда как новые?
– Ну, и что же? – спросил я, задетый замечанием.
– Надо иметь несколько пар – для города, для дачи, для работы, для выхода, для лета, для осени, для зимы. И носить соответственно. Вот как у меня. – И он показал полку с обувью… Важный совет.
Полутемный коридор с нанизанными на него комнатами: справа кухня, спальня, детская. Слева гостиная с длинным столом и кабинет, едва вмещающий диван, стол, шкаф и рояль. Коридор тесен, он завален до потолка книгами, нотами, журналами. Еда простая: сосиски, яйцо всмятку, чай с лимоном. Обед из спецстоловой в алюминиевых судках: суп протертый, котлеты, тефтели с гречкой, компот. ТНХ пуще всех деликатесов любил чайную колбасу.
И было мне поручение – ездить с шофером в Дом на набережной за едой. Специальной книжечкой с талонами снабжали членов ЦК и депутатов Верховного Совета. Причем, разные они были. Наша – самого нижнего уровня. Подороже, и по ней не все продукты шли. Но и того, что можно, достаточно: и красная – черная икра, и балык, и ветчина, и карбонат, и чайная колбаса с чесноком, и угорь… Но мы брали обычный обед – суп протертый, котлеты, компот. Зато полные судки на один талон. Для гостей.
В квартире на Миусах. Что-то маловато сегодня за столом. Обычно народу больше. А моя правая в гипсе, сломал палец на тренировке.
За большим всегда раздвинутым столом гости. Хозяева не едят в одиночестве. Сидят за полночь, шутят шумно, но без алкоголя. То и дело звонит телефон. Он у Тихона под рукой. Вон, виден на фото. ТНХ обожал еврейские, армянские анекдоты, хохотал звонко, от души. В отличие от Шостаковича, который, помню, ни разу даже не улыбнулся на спектакле Аркадия Райкина для членов Комитета по Сталинским премиям. Райкин по этому поводу страшно переживал, вдруг премию не дадут. А я смотрел тогда и думал: вот гений музыки, тончайших чувств властитель, а человек неуживчивый, колючий… Или просто другой?
О жизни, о философии, о литературе, о политике во время тех застолий – ни слова. Я представлял себе, как неприлично прозвучали бы здесь мои вопросы, да и любая тема из газет, например.
– Ну, и что? – говорил я сам себе. Художник высказывается в своем творчестве. Зачем ему подвергать себя опасности за пределами его, так сказать, профессиональной компетентности? Они это уже проходили, научены, как себя вести в приличном обществе. В конечном счете, художника судит история по его произведениям, так что можно и помолчать. И просто набраться терпения…
Вспоминаю, кто ж сидел за тем длинным столом в разное время? Ну, старшая сестра Клары, бывшая актриса немого кино тетя Маня, практически жившая в доме. Высокий, худой, капризный брат дядя Миша, красный партизан из конницы Буденного, известный в Москве коллекционер марок. Рассказывает театральные новости и подыскивает по ходу разговора рифмы давний друг семьи, не имеющий возраста поэт и актер театра Советской армии, автор текстов к опереттам ТНХ Яков Халецкий. Он влюблен всю жизнь в Клару. По праздникам приходят важный Серафим Туликов, ироничный Оскар Фельцман.
С его сыном Володей, по весне полетим в Сочи. Он сбегал туда от весенней аллергии, а я в сочинский «Спутник» с лекциями. Запомнится это веселое путешествие его остротами, в котором проступали черты одессита. Володя, однако, скоро попадет в отказники и просидит почти 10 лет без концертов, разучивая дома репертуар мировой классики. Потом его примет в Белом Доме президент США, и пианист Владимир Фельцман сделает успешную исполнительскую карьеру. Рафинированный, изысканный и недоступный, он уединится под Нью-Йорком в доме в лесу, где бродят олени. Через сорок лет мы встретимся с ним на его гастролях в Лос-Анджелесе, и он меня не узнает. Потом пришлет коллекцию своих записей с теплой надписью…
Лето, когда родился Андрей, проходило на даче, на Николиной горе. Старый, кренившийся деревянный дом, купленный Тихоном у бывшего министра высшего образования СССР Каюрова, не торопясь, чинил Полин брат, алкаш с золотыми руками. «Крючок» звали его заглаза, таким он был весь скрюченным и невзрачным. Клара свозила на дачу в сторожку тюками, коробками, ящиками старые журналы и газеты. В сыром подвале стояли забытые всеми банки с разными солениями и вареньем. Сад, в котором когда – то были высажены десятки редких пород цветов, кустарников и плодовых деревьев, быстро дичал. Я как-то взялся за подступившую к самому дому бузину. Клара, приехавшая из города с очередным тюком, раз и навсегда поставила на место:
– Не твое, не трожь!
Спорить я не стал. И правда, не мое. Хотя можно было бы и не тыкать носом. Я вообще дачу, лес, грибы и всю эту северную экзотику в гробу видал. Мне б горячий песок да ласковое море до горизонта.
Полюбились лишь три сросшиеся, как сестры, молоденькие березки справа у крыльца. Они будут расти вместе с сыном, которого мы уже ждали. Но, спустя годы и годы, вступив во владение дедовским наследством, взрослый уже Андрей их спилит, не ведая, что творит. Почему-то станет особенно больно от того, что он даже никого не спросит. Я увижу осиротевшее, голое крыльцо, и семья окончательно уйдет-уплывет куда-то за голубой горизонт, чтобы уже никогда не вернуться. Это случится позже, почти тридцать лет спустя. А пока…
Округлившаяся Наташа пишет с балкона пейзажи вплотную подступающих к даче теплых, рыжих в лучах солнца высоченных сосен. Ходим на речку, песчаный пятачок у подножья Николиной горы, там роятся мелкие и средние дети известных родителей. За нашим забором – дача Ботвинника, чемпиона мира по шахматам, дальше имение Михалковых, где на обширной территории за высоким забором плодились дачки многочисленного семейства, за поворотом – дача гостеприимной пары знаменитых песенников Пахмутовой и Добронравова, на задах – комсомольская дача, где Павлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, ходил по двору и стрелял от нечего делать из ружья галок. Правда, почти через полвека его дочь, нашедшая меня на фейсбуке объяснит, что это папа учил ее стрелять. По бутылкам.
Иногда к Михалковым наезжал Слава Овчинников. Автор музыки к фильму Бондарчука «Война и мир» – талант и разгильдяй в одном флаконе, любил бродить ночами вокруг дома и пугать беременную Наташу длинными завываниями в кромешной темноте:
– Ната-а-а-ша-а-а! А-у-у-у!..
Говорят, он вот так, шутя и играя, соблазнил юную японскую скрипачку – вундеркинда Йоко Сато, учившуюся в Московской консерватории. Ее привез из Японии Тихон Николаевич как редкую птицу. Она и была такой, всегда готовой взлететь и исчезнуть. А Слава… Что с него взять? Шалопай. Может, сам и распускал такие слухи. Я же ощущал за его вечной бравадой желанную свободу от всяческих шор, включая, я думаю, и от идеологических и от нравственных. Хорошо, что он реализовался в музыке, а не в политике…