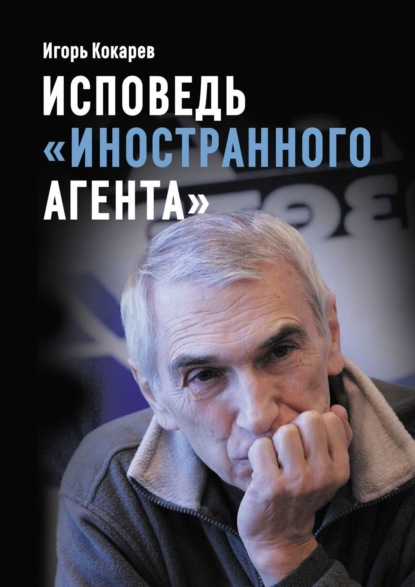По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сам ТНХ бывал здесь редко, в основном на заседаниях Правления дачного кооператива РАНИС (работников науки и искусств). Его сразу избрали председателем Правления. Недаром Овчинников говорил, подняв палец кверху:
– Мой шеф – гениальный дипломат.
За ТНХ тянулись на дачу и гости. Громкоголосая и монументальная создательница Всесоюзного детского музыкального театра, знаменитая Наталья Сац, любила сидеть на веранде с книгой. Властно приглашала присесть рядом, расспрашивала. Видно было, что ей интересно. Рассказывала и сама довольно страшные вещи. Как трясясь в тюремном вагоне над очком, выронила в него под бежавший поезд свое недоношенное дитя. Как допрашивал ее на Лубянке начальник отдела интеллигенции генерал Леонид Райхман. Он сидел за столом, уставленном разными деликатесами и напитками, аппетитно ел украинский борщ. Она, после двух недель на ржавой селедке, почти без воды, стояла перед ним, шатаясь от голода и жажды. Он улыбался…
Так случилось, что с этим Райхманом мне довелось столкнуться лицом к лицу на дне рождения соседа Володи. Того, что учил меня менять обувь. Пожилой, округлый и лысый мужчина произнес тост, обращаясь к собравшейся компании молодых людей:
– Я пью за ваше заботливо выращенное партией прекрасное поколение, за ваши успехи на благо нашей великой Родины. Мы много сделали для того, чтобы вы были счастливыми.
– Кто это? – толкнул я Наташу под столом.
– Это Леонид Райхман, потом расскажу, – ответила Наташа.
Но мне не надо было рассказывать. Я уже знал его. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, вскочил и, перебивая лившуюся мягкой струей речь, прокричал:
– Да как вам не стыдно появляться на людях, смотреть нам в глаза? Пить с вами за одним столом – это скорбление памяти вами замученных! Позор!
Оттолкнув стул, задыхаясь от волны, перехватившей горло, я выскочил в соседнюю комнату и захлопнул за собой дверь. Праздничное застолье замерло. За дверью стояла звенящая тишина. Или это звенело в ушах? Приоткрылась дверь, и ко мне подошел он. Присел на кровать, где я лежал, уткнувшись лицом в одеяло, и начал говорить. Тихо, медленно, глухо:
– Молодой человек, вы ничего не знаете про наше время. И хорошо, что не знаете. Но поймите одно: мы были вынуждены, такие были обстоятельства. Шла война, классовая, жестокая война, мы верили в победу, и тяжелой ценой, но мы победили, вы должны понять и простить нас, мы многим и многими жертвовали во имя будущего. Оно пришло, и вы счастливы уже тем, что живете в другое, невинное время. Простите нас…
Потом он встал и тихо ушел. Как кончился тот день рождения, не помню. Но Наталью Сац похоронившую не без помощи Сталина трех мужей и пребывавшую замужем за четвертым, который был моложе ее лет на сорок, буду помнить всегда. Она учила меня не тушеваться, ценить себя в любых обстоятельствах, а, главное, делать дело, которому не стыдно посвятить жизнь.
…Наташа на корточках обновляла клумбу перед крыльцом, когда начали отходить воды. До Кунцевской больницы отсюда близко. Пришла машина, ее забрали и там, в Кремлевке, через несколько часов родится Андрей, для которого в будущем эта дача станет по-настоящему родным домом, родовым имением. Рядом он выстроит еще домину, и это уже будет гнездом его собственного семейства…
Хвастаться нечем: радость отцовства теща отобрала вместе с пеленками, бессонными ночами и прочими родительскими хлопотами. Я ныл: пора жить самостоятельно! Наташа же никуда не стремилась, ей было удобно и уютно с родителями. В конце концов, когда неутомимая Клара путем многочисленных обменов вселит нас в двухкомнатную квартиру на той же лестничной клетке, я попытаюсь забрать малыша. Дважды переносил его с коляской через площадку. Вечером он оказывался снова на той половине. Понятное дело, там няньки, игрушки, баба-бабу, бутылочки-тарелочки, еда под рукой. А здесь? У меня аспирантура, у Наташи – театр. Целыми днями никого дома.
Нас уже трое, Наташа, Андрюша и, значит, отец
Так что грех жаловаться. Потом, никто же не запрещает: приходи, поиграй с малышом. И иди себе, пиши диссертацию. Я утешал себя: Пушкина так вообще воспитала няня Арина Родионовна. Вот ее он и любил. Так и Андрей, воспитанный бабушкой Кларой, к отцу впоследствии не будет испытывать горячих чувств. Но разве думаешь о дальних последствиях, которые сами без твоего ведома и согласия созревают в утробе времени?
Светская жизнь композитора – его премьеры и концерты. На них – вся семья и многочисленные друзья дома, коллеги. Списки всегда составляла Клара. В Большом театре перед началом балета «Любовью за любовь» толклись гости в тесной раздевалке под лестницей служебного подъезда, ведущего в директорскую ложу. Вдруг сверху полилась густая патока:
– Кого я вижу!? Самого патриарха советской музыки! Великого и гениальнейшего из всех живущих композиторов – самого Тихона Николаевича! Дорогой мой, любимый, великий человек и композитор, мой кумир, я этого не переживу! Как я счастлив вас видеть, моя жизнь озарена этой встречей! Кого мне благодарить за это счастье?
По лестнице спускался с распростертыми объятиями сам сладчайший Илья Глазунов. ТНХ чуть попятился, но его уже захватили мастеровые руки народного художника и мяли, мяли. Мне казалось, что всем окружающим стало неловко. Но, возможно, я ошибался. Избавившись от сияющего счастьем Глазунова благодаря появлению из-за вешалки верной Клары, ТНХ спешит за кулисы поздороваться с танцорами…
Дома у ТНХ таких выходок не допускалось. Во всяком случае, не припомню. Зато была в доме важная книга – тетрадь. Лежала она у телефона. В нее записывались ВСЕ телефонные звонки – кто звонил, зачем и номер телефона. Клара неукоснительно требовала записывать каждый звонок. Я недоумевал, зачем? Но тоже записывал. Надо было записать, что манина племянница поступила-таки в институт. Что чей-то сын взят в армию со второго курса консерватории, это безобразие. Значит, будут снова звонить, вечером. Кому-то нужна поездка заграницу. Кому-то надо достать лекарства в Кремлевке. Срочно нужна операция, нельзя ли попасть к Коновалову в нейрохирургию? А можно показать талантливого мальчика? Ну, просто гений, вундеркинд. А вот звонок из Ростова, просят передать благодарность… Или случился скандал в дачном кооперативе, надо срочно приехать на заседание Правления. Или…
Как-то в удобный момент я спросил: где предел? Ответ запомнил на всю жизнь:
– Никогда не отказывай, когда к тебе обращается за помощью. Потому что придет время, когда ты уже никому будешь не нужен. И это страшнее всего.
Ужас в том, что такое время для него все равно наступило, когда рухнула империя, и ядовитые языки назвали его сталинским ставленником, душителем свободы в Союзе композиторов. Это было неправдой, он будет тяжело страдать, но никогда не оправдываться. Сильный, хорошо выписанный эпохой характер.
Страсть к водным лыжам – вот что связало меня с Микаэлом Таривердиевым. В Сухуми, в композиторском санатории «Лилэ» носились за быстроходным катером. В одно такое лето, увертываясь от неизвестно откуда вынырнувшей головы, я врезался в пирс. Сломал обе кисти на глазах хором ахнувшего пляжа. Обмякшего, испуганного отвезли в местную больничку, заковали в гипс и обкололи обезболивающими. Через пару дней я снова полез на доску, держа парус гипсовыми обрубками с торчащими из них пальцами. Кайф! Но на левой руке кости срослись из-за этих экспериментов неправильно. Пришлось ломать и снова месяц ходить в гипсе. Не стоило лезть на доску с поломанными руками… Мы с Микаэлом гоняли и на его даче в Химках, где хранилась доска с парусом и для меня.
У него были огромные лапы. Именно лапы, а не руки. Этими мягкими лапами он накрывал две октавы, и, не глядя, отыскивал ими нужные ему звуки. Так рождалась песня. Я сидел рядом и ел с тарелки мягкий, с хрустящими на зубах семечками, инжир. Он наигрывал, нащупывал то, что должно было стать темой до сих пор любимой народом разных стран мелодии.
Потом мы шли на пляж, брали по доске, поднимали паруса и неслись аж до Сухуми, подрезая друг друга на смене галса. Усталые, падали на горячий песок, и он лежал на спине, длинный, как удав Каа, приподняв вытянутую голову и медленно поворачивал ее, следя за женским миром оливковыми глазами. И женщины, эти бандерлоги нашей тайной, второй жизни полов, шли на этот взгляд, как завороженные…
После премьеры своего знаменитого телефильма, сделавшего его сразу еще более, невероятно популярным, он получил эту ехидную международную телеграмму: «Поздравляю успехом моей музыки в вашем фильме» – Фрэнсис Лей. Он чуть не плакал:
– Сволочь Никита, услышал одну ноту и опозорил на всю страну!
Он был почему-то уверен, что это проделки Никиты Богословского, прославившегося еще с 40-х своими рискованными розыгрышами не меньше, чем музыкой.
Микаэл уже работал над другим фильмом, и проникающий в душу лиризм его новых песен, сделает и этот фильм классикой советского кино. Его будут традиционно показывать под Новый год уж какое десятилетие подряд… Микаэл пользовался авторитетом среди киношников, был одним из активных секретарей в нашем Союзе кинематографистов. Его любили и там и там, хотя ТНХ, как я понял, считал его фрондером и ребенком в политике. Микаэлу я этого естественно не говорил.
По его просьбе я писал коротенькое либретто «Девушка и смерть» по мотивам горьковской «Старухи Изергиль». Он сочинил прелестную романтическую музыку, Вера Бакадоро начала ставить балет в Большом. Не успела. Начнется перестройка, новая жизнь, Микаэла начнут терзать болезни. Он много курил и, несмотря на пережитый инфаркт, не бросал:
– Не буду я изменять своим привычкам, – отмахивался он небрежно от тревожащихся за него друзей, – пусть будет, что будет. Подумаешь, жизнь.
Он чувствовал вечность.
С очередным приступом самолетом его отправили в Лондон. Там сделали операцию на открытом сердце. Он вернулся, я встретил его на пороге Дома кино. В разрез белой рубашки апаш виднелся багровый шрам. Его любили за талант, незлобивость и страсть к справедливости. За детскую открытость, за интерес к людям. Не забуду его вечно простуженный, клокочущий голос. Орел, слетевший с кавказских вершин на промозглые московские улицы. Впрочем, у него был «Мерседес», которым он очень гордился… Микаэль ушел, а его верная подруга посвятит свою жизнь сохранению памяти о нем и его музыке. Верочка, Микаэль заслужил твою преданность и любовь…
В 1982-м меня потрясет смерть другого композитора. В Большом давали балет «Макбет». Его автор, шестидесятилетний красавец, композитор Кирилл Молчанов, отец Володи Молчанова, в недалеком будущем обаятельного телеведущего, сидел как всегда в директорской ложе. Высокий, вальяжный, с крупным значительным лицом, похожим на Пастернака. Там, за тяжелой бордовой завесой, отделявшей от зрителей ложу, стоящую почти на сцене, в темной ее глубине он вдруг схватился за сердце, сдержал стон, чтобы не испугать танцоров и умер. Красивая смерть. Но все равно смерть. Трагедия. Леди Макбет в тот вечер танцевала его жена, звезда Большого Нина Тимофеева. Ей сказали в антракте. Она охнула, опустилась на стул, отсиделась и пошла танцевать дальше. Спектакль шел, как ни в чем ни бывало. Никто из зрителей в тот вечер так и не узнал, что произошло за кулисами.
Искусство требует жертв. Но не таких, подумалось. Зритель должен знать, какой ценой оплачен сегодня его билет. И этот спектакль остался бы тогда в его памяти на всю жизнь, как прощание с большим художником, как подвиг его жены, на их глазах уже взвалившей на себя крест потери.
Много лиц из той растянувшейся на тридцать лет жизни останутся в памяти навсегда. Виолончелист Миша Хомицер, избалованный еврейский ребенок, вечно жаловался на жизнь, неряшливо ел и небрежно одевался. С ТНХ они удалялись в кабинет, где обсуждали нюансы разучиваемого Мишей скрипичного концерта. Однажды Миша вернется из Одессы с гастролей с молодой девицей, которая быстро стала его женой. Надо было видеть, как он был горд своим приобретением. Пока жена не наставила ему рога и не свалила с молодым человеком, прихватив часть имущества. Миша обиделся и уехал преподавать в Финляндию, потом, кажется, в Израиль.
Клара любила Володю Спивакова. Его нельзя было не любить, полного энергией, обаятельного, спортивного. Почему-то после ужина в большой квартире он оказывался у нас напротив и, сидя на кухне, охмурял Наташу своим бархатным эротическим басом. Она охотно принимала его ухаживания, а я после полуночи их покидал и уходил спать, чтя нашу флотскую мудрость: «жена моего друга – не женщина». Чтил ли ее Володя, я так никогда и не узнаю, но когда он возвращался с гастролей, он привозил подарки обоим.
Консерваторская молодежь часто бывала в доме у своего педагога. Сашу Чайковского просто обожал маленький Андрюша, которого слегка насмешливый и дружелюбный Саша задаривал его моделями машин из своей коллекции. Он вообще не выглядел композитором, когда возился с Андреем или болтал с нами на разные темы. Кто бы мог тогда подумать, что сын Андрюши будет учиться в консерватории, где ректором станет этот дурачившийся с его отцом Александр Чайковский?
Вот кто и был и выглядел композитором, так это Таня Чудова. Серьезная, всегда воодушевленная своим творчеством, с ней, казалось, ни о чем кроме музыки и не поговоришь. Именно Тане передаст ТНХ своего правнука, когда у того проснется интерес к музыке. Зато с Ираклием Габичвадзе, сыном известного грузинского композитора, который дружил с Тихоном, все было иначе. Он тоже писал музыку и учился в консерватории, но если он и говорил о чем-то с глубоким знанием дела, так это о женщинах.
Ни разу не видел его раздраженным, обиженным, злым, неприветливым. Кажется, Тихону доставляло наслаждение просто слушать голоса своих коллег, соратников, учеников. Он так и помнится мне: во главе большого стола, немного грузноватый с годами. Чуть прикрыв глаза, он то ли дремлет, то ли слушает. Или сочиняет? Он не умел, но пытался рассказывать анекдоты. Зато каким он был слушателем! Когда за столом оказывался Ростропович, все оживлялись. Слава был, что называется, записной хохмач, ирония сквозила в его глазах как легкий сквознячок, когда он смотрел на собеседника, готовя очередной каламбур или шутку. Любил розыгрыши. Помню историю, как приятель-гинеколог приглашал его посмотреть на хорошеньких пациенток. Он входил в кабинет в белом халате, рассматривал обнаженку, важно кивал головой.
– Взгляните, коллега. Вам не кажется, что это сложный случай?
Правда это или нет, неважно, но гомерический хохот того стоил.
Миша Хомицер ревниво относился к Растроповичу:
– Это же не музыкант! Это артист, забавляющий публику жестами, голосом, всем, чем угодно. Ну, и виолончелью, в дополнение…
То же, кстати, можно было сказать и о Спивакове, умело режиссировавшим свои концерты. «Виртуозов Москвы», кстати, он действительно представлял сам, не стесняясь говорить с залом своим бархатным басом. То, что не нравилось Мише, как раз очень нравилось мне. Но это, конечно, дело вкуса.
Двадцатитрехлетнего Александра Градского привел к ТНХ пробивной Андрон Кончаловский. Он тогда снимал «Романс о влюбленных», был буквально влюблен в ошеломительный дар юного Градского, покрывшего всю остальную музыку в его новаторском фильме, как бык овцу. Андрон горел желанием поделиться своим открытием с главным человеком в советской музыке. Речь шла о композиторском факультете консерватории.
Андрон нахваливал Сашу, которого считал своим открытием, Саша держался напористо и независимо. Он уже прославился своими «Скоморохами», учился вокалу в Институте Гнесина и теперь ему хотелось еще и в класс композиции. Тихону Градский понравился, и Саша скоро оказался у него в классе. И потом вспоминал это время с благодарностью. Однако его неуемная энергия и полеты фантазии оказались несовместимыми с академизмом консерватории, где надо было сдавать экзамены. Он все-таки вылетел оттуда так же стремительно, как и влетел.
С Сашей мы быстро перешли на «ты» и не раз пересекались по жизни. Попасть на его концерты было уже тогда не просто, но достаточно было звонка… Позже, уже в перестроечные годы, совершенно неожиданно столкнутся наши интересы на одном и том же объекте – кинотеатре «Буревестник». Градский будет тогда в зените славы, и всемогущий Лужков, не глядя, подмахнет ему бумагу, которой «Буревестник» передавался ему под музыкальный центр, забыв или не заметив, что уже больше года к тому времени в старом кинотеатре велся ремонт силами моего детища – АСКа (Американо-Советской Киноинициативы).
– Мне говорили, что ты моряк и бывал в Греции? – спрашивает меня демонической красоты темноволосая смуглая женщина, сидя рядом в первом ряду Большого зала консерватории. Это Мария Каллас. Я никого не вижу и не слышу вокруг кроме нее. Великая певица и подруга миллиардера Онассиса. Ухо мое повернуто к сцене, а глаза на нее, только на нее. У нее получалось естественно не млеть от восхищенных взглядов. Просто отвечать каждому, кто сумел дотянуться. Но вот зазвучала музыка и все изменилось. Большие темные очки скрыли ее глаза, она ушла в себя и стала статуей, похожей на Нефертити.
– Мой шеф – гениальный дипломат.
За ТНХ тянулись на дачу и гости. Громкоголосая и монументальная создательница Всесоюзного детского музыкального театра, знаменитая Наталья Сац, любила сидеть на веранде с книгой. Властно приглашала присесть рядом, расспрашивала. Видно было, что ей интересно. Рассказывала и сама довольно страшные вещи. Как трясясь в тюремном вагоне над очком, выронила в него под бежавший поезд свое недоношенное дитя. Как допрашивал ее на Лубянке начальник отдела интеллигенции генерал Леонид Райхман. Он сидел за столом, уставленном разными деликатесами и напитками, аппетитно ел украинский борщ. Она, после двух недель на ржавой селедке, почти без воды, стояла перед ним, шатаясь от голода и жажды. Он улыбался…
Так случилось, что с этим Райхманом мне довелось столкнуться лицом к лицу на дне рождения соседа Володи. Того, что учил меня менять обувь. Пожилой, округлый и лысый мужчина произнес тост, обращаясь к собравшейся компании молодых людей:
– Я пью за ваше заботливо выращенное партией прекрасное поколение, за ваши успехи на благо нашей великой Родины. Мы много сделали для того, чтобы вы были счастливыми.
– Кто это? – толкнул я Наташу под столом.
– Это Леонид Райхман, потом расскажу, – ответила Наташа.
Но мне не надо было рассказывать. Я уже знал его. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, вскочил и, перебивая лившуюся мягкой струей речь, прокричал:
– Да как вам не стыдно появляться на людях, смотреть нам в глаза? Пить с вами за одним столом – это скорбление памяти вами замученных! Позор!
Оттолкнув стул, задыхаясь от волны, перехватившей горло, я выскочил в соседнюю комнату и захлопнул за собой дверь. Праздничное застолье замерло. За дверью стояла звенящая тишина. Или это звенело в ушах? Приоткрылась дверь, и ко мне подошел он. Присел на кровать, где я лежал, уткнувшись лицом в одеяло, и начал говорить. Тихо, медленно, глухо:
– Молодой человек, вы ничего не знаете про наше время. И хорошо, что не знаете. Но поймите одно: мы были вынуждены, такие были обстоятельства. Шла война, классовая, жестокая война, мы верили в победу, и тяжелой ценой, но мы победили, вы должны понять и простить нас, мы многим и многими жертвовали во имя будущего. Оно пришло, и вы счастливы уже тем, что живете в другое, невинное время. Простите нас…
Потом он встал и тихо ушел. Как кончился тот день рождения, не помню. Но Наталью Сац похоронившую не без помощи Сталина трех мужей и пребывавшую замужем за четвертым, который был моложе ее лет на сорок, буду помнить всегда. Она учила меня не тушеваться, ценить себя в любых обстоятельствах, а, главное, делать дело, которому не стыдно посвятить жизнь.
…Наташа на корточках обновляла клумбу перед крыльцом, когда начали отходить воды. До Кунцевской больницы отсюда близко. Пришла машина, ее забрали и там, в Кремлевке, через несколько часов родится Андрей, для которого в будущем эта дача станет по-настоящему родным домом, родовым имением. Рядом он выстроит еще домину, и это уже будет гнездом его собственного семейства…
Хвастаться нечем: радость отцовства теща отобрала вместе с пеленками, бессонными ночами и прочими родительскими хлопотами. Я ныл: пора жить самостоятельно! Наташа же никуда не стремилась, ей было удобно и уютно с родителями. В конце концов, когда неутомимая Клара путем многочисленных обменов вселит нас в двухкомнатную квартиру на той же лестничной клетке, я попытаюсь забрать малыша. Дважды переносил его с коляской через площадку. Вечером он оказывался снова на той половине. Понятное дело, там няньки, игрушки, баба-бабу, бутылочки-тарелочки, еда под рукой. А здесь? У меня аспирантура, у Наташи – театр. Целыми днями никого дома.
Нас уже трое, Наташа, Андрюша и, значит, отец
Так что грех жаловаться. Потом, никто же не запрещает: приходи, поиграй с малышом. И иди себе, пиши диссертацию. Я утешал себя: Пушкина так вообще воспитала няня Арина Родионовна. Вот ее он и любил. Так и Андрей, воспитанный бабушкой Кларой, к отцу впоследствии не будет испытывать горячих чувств. Но разве думаешь о дальних последствиях, которые сами без твоего ведома и согласия созревают в утробе времени?
Светская жизнь композитора – его премьеры и концерты. На них – вся семья и многочисленные друзья дома, коллеги. Списки всегда составляла Клара. В Большом театре перед началом балета «Любовью за любовь» толклись гости в тесной раздевалке под лестницей служебного подъезда, ведущего в директорскую ложу. Вдруг сверху полилась густая патока:
– Кого я вижу!? Самого патриарха советской музыки! Великого и гениальнейшего из всех живущих композиторов – самого Тихона Николаевича! Дорогой мой, любимый, великий человек и композитор, мой кумир, я этого не переживу! Как я счастлив вас видеть, моя жизнь озарена этой встречей! Кого мне благодарить за это счастье?
По лестнице спускался с распростертыми объятиями сам сладчайший Илья Глазунов. ТНХ чуть попятился, но его уже захватили мастеровые руки народного художника и мяли, мяли. Мне казалось, что всем окружающим стало неловко. Но, возможно, я ошибался. Избавившись от сияющего счастьем Глазунова благодаря появлению из-за вешалки верной Клары, ТНХ спешит за кулисы поздороваться с танцорами…
Дома у ТНХ таких выходок не допускалось. Во всяком случае, не припомню. Зато была в доме важная книга – тетрадь. Лежала она у телефона. В нее записывались ВСЕ телефонные звонки – кто звонил, зачем и номер телефона. Клара неукоснительно требовала записывать каждый звонок. Я недоумевал, зачем? Но тоже записывал. Надо было записать, что манина племянница поступила-таки в институт. Что чей-то сын взят в армию со второго курса консерватории, это безобразие. Значит, будут снова звонить, вечером. Кому-то нужна поездка заграницу. Кому-то надо достать лекарства в Кремлевке. Срочно нужна операция, нельзя ли попасть к Коновалову в нейрохирургию? А можно показать талантливого мальчика? Ну, просто гений, вундеркинд. А вот звонок из Ростова, просят передать благодарность… Или случился скандал в дачном кооперативе, надо срочно приехать на заседание Правления. Или…
Как-то в удобный момент я спросил: где предел? Ответ запомнил на всю жизнь:
– Никогда не отказывай, когда к тебе обращается за помощью. Потому что придет время, когда ты уже никому будешь не нужен. И это страшнее всего.
Ужас в том, что такое время для него все равно наступило, когда рухнула империя, и ядовитые языки назвали его сталинским ставленником, душителем свободы в Союзе композиторов. Это было неправдой, он будет тяжело страдать, но никогда не оправдываться. Сильный, хорошо выписанный эпохой характер.
Страсть к водным лыжам – вот что связало меня с Микаэлом Таривердиевым. В Сухуми, в композиторском санатории «Лилэ» носились за быстроходным катером. В одно такое лето, увертываясь от неизвестно откуда вынырнувшей головы, я врезался в пирс. Сломал обе кисти на глазах хором ахнувшего пляжа. Обмякшего, испуганного отвезли в местную больничку, заковали в гипс и обкололи обезболивающими. Через пару дней я снова полез на доску, держа парус гипсовыми обрубками с торчащими из них пальцами. Кайф! Но на левой руке кости срослись из-за этих экспериментов неправильно. Пришлось ломать и снова месяц ходить в гипсе. Не стоило лезть на доску с поломанными руками… Мы с Микаэлом гоняли и на его даче в Химках, где хранилась доска с парусом и для меня.
У него были огромные лапы. Именно лапы, а не руки. Этими мягкими лапами он накрывал две октавы, и, не глядя, отыскивал ими нужные ему звуки. Так рождалась песня. Я сидел рядом и ел с тарелки мягкий, с хрустящими на зубах семечками, инжир. Он наигрывал, нащупывал то, что должно было стать темой до сих пор любимой народом разных стран мелодии.
Потом мы шли на пляж, брали по доске, поднимали паруса и неслись аж до Сухуми, подрезая друг друга на смене галса. Усталые, падали на горячий песок, и он лежал на спине, длинный, как удав Каа, приподняв вытянутую голову и медленно поворачивал ее, следя за женским миром оливковыми глазами. И женщины, эти бандерлоги нашей тайной, второй жизни полов, шли на этот взгляд, как завороженные…
После премьеры своего знаменитого телефильма, сделавшего его сразу еще более, невероятно популярным, он получил эту ехидную международную телеграмму: «Поздравляю успехом моей музыки в вашем фильме» – Фрэнсис Лей. Он чуть не плакал:
– Сволочь Никита, услышал одну ноту и опозорил на всю страну!
Он был почему-то уверен, что это проделки Никиты Богословского, прославившегося еще с 40-х своими рискованными розыгрышами не меньше, чем музыкой.
Микаэл уже работал над другим фильмом, и проникающий в душу лиризм его новых песен, сделает и этот фильм классикой советского кино. Его будут традиционно показывать под Новый год уж какое десятилетие подряд… Микаэл пользовался авторитетом среди киношников, был одним из активных секретарей в нашем Союзе кинематографистов. Его любили и там и там, хотя ТНХ, как я понял, считал его фрондером и ребенком в политике. Микаэлу я этого естественно не говорил.
По его просьбе я писал коротенькое либретто «Девушка и смерть» по мотивам горьковской «Старухи Изергиль». Он сочинил прелестную романтическую музыку, Вера Бакадоро начала ставить балет в Большом. Не успела. Начнется перестройка, новая жизнь, Микаэла начнут терзать болезни. Он много курил и, несмотря на пережитый инфаркт, не бросал:
– Не буду я изменять своим привычкам, – отмахивался он небрежно от тревожащихся за него друзей, – пусть будет, что будет. Подумаешь, жизнь.
Он чувствовал вечность.
С очередным приступом самолетом его отправили в Лондон. Там сделали операцию на открытом сердце. Он вернулся, я встретил его на пороге Дома кино. В разрез белой рубашки апаш виднелся багровый шрам. Его любили за талант, незлобивость и страсть к справедливости. За детскую открытость, за интерес к людям. Не забуду его вечно простуженный, клокочущий голос. Орел, слетевший с кавказских вершин на промозглые московские улицы. Впрочем, у него был «Мерседес», которым он очень гордился… Микаэль ушел, а его верная подруга посвятит свою жизнь сохранению памяти о нем и его музыке. Верочка, Микаэль заслужил твою преданность и любовь…
В 1982-м меня потрясет смерть другого композитора. В Большом давали балет «Макбет». Его автор, шестидесятилетний красавец, композитор Кирилл Молчанов, отец Володи Молчанова, в недалеком будущем обаятельного телеведущего, сидел как всегда в директорской ложе. Высокий, вальяжный, с крупным значительным лицом, похожим на Пастернака. Там, за тяжелой бордовой завесой, отделявшей от зрителей ложу, стоящую почти на сцене, в темной ее глубине он вдруг схватился за сердце, сдержал стон, чтобы не испугать танцоров и умер. Красивая смерть. Но все равно смерть. Трагедия. Леди Макбет в тот вечер танцевала его жена, звезда Большого Нина Тимофеева. Ей сказали в антракте. Она охнула, опустилась на стул, отсиделась и пошла танцевать дальше. Спектакль шел, как ни в чем ни бывало. Никто из зрителей в тот вечер так и не узнал, что произошло за кулисами.
Искусство требует жертв. Но не таких, подумалось. Зритель должен знать, какой ценой оплачен сегодня его билет. И этот спектакль остался бы тогда в его памяти на всю жизнь, как прощание с большим художником, как подвиг его жены, на их глазах уже взвалившей на себя крест потери.
Много лиц из той растянувшейся на тридцать лет жизни останутся в памяти навсегда. Виолончелист Миша Хомицер, избалованный еврейский ребенок, вечно жаловался на жизнь, неряшливо ел и небрежно одевался. С ТНХ они удалялись в кабинет, где обсуждали нюансы разучиваемого Мишей скрипичного концерта. Однажды Миша вернется из Одессы с гастролей с молодой девицей, которая быстро стала его женой. Надо было видеть, как он был горд своим приобретением. Пока жена не наставила ему рога и не свалила с молодым человеком, прихватив часть имущества. Миша обиделся и уехал преподавать в Финляндию, потом, кажется, в Израиль.
Клара любила Володю Спивакова. Его нельзя было не любить, полного энергией, обаятельного, спортивного. Почему-то после ужина в большой квартире он оказывался у нас напротив и, сидя на кухне, охмурял Наташу своим бархатным эротическим басом. Она охотно принимала его ухаживания, а я после полуночи их покидал и уходил спать, чтя нашу флотскую мудрость: «жена моего друга – не женщина». Чтил ли ее Володя, я так никогда и не узнаю, но когда он возвращался с гастролей, он привозил подарки обоим.
Консерваторская молодежь часто бывала в доме у своего педагога. Сашу Чайковского просто обожал маленький Андрюша, которого слегка насмешливый и дружелюбный Саша задаривал его моделями машин из своей коллекции. Он вообще не выглядел композитором, когда возился с Андреем или болтал с нами на разные темы. Кто бы мог тогда подумать, что сын Андрюши будет учиться в консерватории, где ректором станет этот дурачившийся с его отцом Александр Чайковский?
Вот кто и был и выглядел композитором, так это Таня Чудова. Серьезная, всегда воодушевленная своим творчеством, с ней, казалось, ни о чем кроме музыки и не поговоришь. Именно Тане передаст ТНХ своего правнука, когда у того проснется интерес к музыке. Зато с Ираклием Габичвадзе, сыном известного грузинского композитора, который дружил с Тихоном, все было иначе. Он тоже писал музыку и учился в консерватории, но если он и говорил о чем-то с глубоким знанием дела, так это о женщинах.
Ни разу не видел его раздраженным, обиженным, злым, неприветливым. Кажется, Тихону доставляло наслаждение просто слушать голоса своих коллег, соратников, учеников. Он так и помнится мне: во главе большого стола, немного грузноватый с годами. Чуть прикрыв глаза, он то ли дремлет, то ли слушает. Или сочиняет? Он не умел, но пытался рассказывать анекдоты. Зато каким он был слушателем! Когда за столом оказывался Ростропович, все оживлялись. Слава был, что называется, записной хохмач, ирония сквозила в его глазах как легкий сквознячок, когда он смотрел на собеседника, готовя очередной каламбур или шутку. Любил розыгрыши. Помню историю, как приятель-гинеколог приглашал его посмотреть на хорошеньких пациенток. Он входил в кабинет в белом халате, рассматривал обнаженку, важно кивал головой.
– Взгляните, коллега. Вам не кажется, что это сложный случай?
Правда это или нет, неважно, но гомерический хохот того стоил.
Миша Хомицер ревниво относился к Растроповичу:
– Это же не музыкант! Это артист, забавляющий публику жестами, голосом, всем, чем угодно. Ну, и виолончелью, в дополнение…
То же, кстати, можно было сказать и о Спивакове, умело режиссировавшим свои концерты. «Виртуозов Москвы», кстати, он действительно представлял сам, не стесняясь говорить с залом своим бархатным басом. То, что не нравилось Мише, как раз очень нравилось мне. Но это, конечно, дело вкуса.
Двадцатитрехлетнего Александра Градского привел к ТНХ пробивной Андрон Кончаловский. Он тогда снимал «Романс о влюбленных», был буквально влюблен в ошеломительный дар юного Градского, покрывшего всю остальную музыку в его новаторском фильме, как бык овцу. Андрон горел желанием поделиться своим открытием с главным человеком в советской музыке. Речь шла о композиторском факультете консерватории.
Андрон нахваливал Сашу, которого считал своим открытием, Саша держался напористо и независимо. Он уже прославился своими «Скоморохами», учился вокалу в Институте Гнесина и теперь ему хотелось еще и в класс композиции. Тихону Градский понравился, и Саша скоро оказался у него в классе. И потом вспоминал это время с благодарностью. Однако его неуемная энергия и полеты фантазии оказались несовместимыми с академизмом консерватории, где надо было сдавать экзамены. Он все-таки вылетел оттуда так же стремительно, как и влетел.
С Сашей мы быстро перешли на «ты» и не раз пересекались по жизни. Попасть на его концерты было уже тогда не просто, но достаточно было звонка… Позже, уже в перестроечные годы, совершенно неожиданно столкнутся наши интересы на одном и том же объекте – кинотеатре «Буревестник». Градский будет тогда в зените славы, и всемогущий Лужков, не глядя, подмахнет ему бумагу, которой «Буревестник» передавался ему под музыкальный центр, забыв или не заметив, что уже больше года к тому времени в старом кинотеатре велся ремонт силами моего детища – АСКа (Американо-Советской Киноинициативы).
– Мне говорили, что ты моряк и бывал в Греции? – спрашивает меня демонической красоты темноволосая смуглая женщина, сидя рядом в первом ряду Большого зала консерватории. Это Мария Каллас. Я никого не вижу и не слышу вокруг кроме нее. Великая певица и подруга миллиардера Онассиса. Ухо мое повернуто к сцене, а глаза на нее, только на нее. У нее получалось естественно не млеть от восхищенных взглядов. Просто отвечать каждому, кто сумел дотянуться. Но вот зазвучала музыка и все изменилось. Большие темные очки скрыли ее глаза, она ушла в себя и стала статуей, похожей на Нефертити.