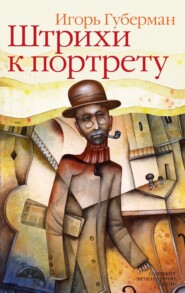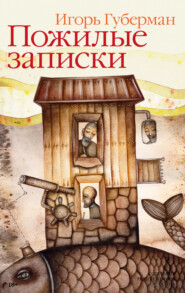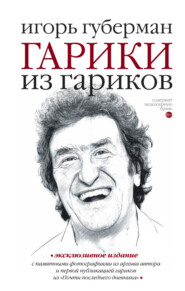По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга странствий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И ушел. Метлу прислонив к стенке аккуратно, убрели и мы. А утром все звонили, извинялись и каялись, но жена Алика еще долго никого из нас не пускала в гости.
Мне с остротой и яркостью все это вспомнилось почти сорок лет спустя, когда в Венеции стояли мы вчетвером (Саша Окунь, его жена Верочка и мы с Татой) на кладбищенском островке Сан-Микеле. Уже на плане для русских туристов, издавна искавших могилы Дягилева и Стравинского, чернилами был вписан Бродский, и холмик под крестом нашли мы быстро. Мы распили там бутылку, помянув его, и чуть вина плеснули на могилу.
Бродский, подобно многим, с неких лет чурался своего еврейства, никогда почти его не обсуждал, писал на христианские мотивы, и еврейство, по иронии судьбы, пришло к нему посмертно. Вся могила, включая горизонтальные плоскости креста, была уложена камушками, что приносят евреи, по давней иудейской традиции, на могилы близких. Это многочисленные израильтяне российского происхождения приходили почтить его память. Положили свои камушки и мы.
Куда-то вынесло меня на перепутье, не хотел я с самого начала вспоминать ушедших, но теперь уже никак не замолчать то чувство пустоты, что появилось в день, когда нам позвонили из Москвы про Гришу Горина. За месяц до этого мы пили с ним весь вечер в Сан-Франциско: ему исполнилось шестьдесят, и он приехал эти дни побыть с отцом. Девяностолетний отец подарил ему сто долларов, чтобы он съездил поиграть в Лас-Вегас. Это был очень неслучайный подарок: старик при помощи любимого сына изживал свою несостоявшуюся страсть к игре. Ибо советский человек, всю жизнь свою он обходился эрзацами утоления глубинного азарта, он, даже в Америку уезжая с семьей дочери, тревожно спрашивал у Гриши, играют ли там в домино. Было очень весело в тот вечер – как повсюду, где за столом сидел Гриша, и жуткая растерянность, не меньшая, чем печаль, охватила меня от вести о его внезапной смерти. За те много лет, что его знал, хоть мы и виделись довольно редко и скорей случайно, я привык, что он все время существует где-то рядом, и что это на всю жизнь – не сомневался.
Наш огромный семейный клан был пожизненным должником Гриши Горина. Когда меня в семьдесят девятом посадили, то немедленно и вдруг дали разрешение на выезд семье сестры моей жены – до той поры сидели они в глухом отказе. А теперь сотрудникам всевидящего ока пришла в голову роскошная идея выяснить таким образом мои преступные связи: к моему свояку стали обращаться разные темные личности с завидным предложением разбогатеть, если он вывезет то это, то это – ассортимент был очень разнообразен. Свояк мой наотрез ото всего отказался, но разрешения на выезд все-таки не отменили. И тут я вспомнить попрошу, что в эти годы уезжавшие прощались навсегда – надежды на возможность видеться не было ни у кого. Теща моя держалась безупречно и без единого упрека или слезы – чего ей это стоило, все понимали. И возник вдруг Гриша Горин – в эти дни как раз летел он в Вену на премьеру своего спектакля. Спросил про день отъезда, посидел, рассказывая теще, как это прекрасно, что иная будет жизнь у дочери с семьей и что наверняка удастся им не только видеться, но и ездить друг к другу (беспочвенное это утешение тогда твердили многие), и убежал куда-то по делам. А в день отъезда появился в Шереметьеве: он обменял, как оказалось, свой билет, чтоб ехать вместе, подхватил один из чемоданов, и его улыбчивое лицо лучше любых напрасных слов снизило трагедию проводов. А как и чем он рисковал, понятно только тем, кто жил в то замечательное время, – тем, кто еще помнит, как зависели выезды творческого человека от его идеологической безупречности.
Еще я вспомнил по естественной ассоциации безумно смешной Гришин рассказ (его устные истории воспроизвести невозможно, он был гением застольной байки), как ему однажды позвонили из сирийского посольства. Там у нас в Дамаске, почтительно сказал ему какой-то деятель культуры, состоится премьера вашей пьесы, я уполномочен пригласить вас, вы окажете нам честь.
– За чем же дело стало? – спросил Гриша. – Я готов и с удовольствием.
– Я заполняю тут на вас анкету, – пояснил невидимый собеседник, – знаю ваше имя и фамилию, а отчество, простите, не знаю.
– Очень простое отчество, – бодро ответил Гриша, – Израильевич.
С полминуты висело в трубке тяжкое молчание, после чего уныло скисший голос собеседника сказал:
– Ну, все равно приезжайте.
Но билета так и не прислал.
Гриша в те года жил на улице Горького, а в ходе хлынувшей свободы в подвале его дома учинили дискотеку, и до позднего утра весь дом дрожал от лошадиного топтания. Жильцы подали в Моссовет коллективную жалобу о своем бедствии, самой высокой и опасной для дискотеки была, естественно, подпись Григория Горина. Поэтому его как-то вечером окружили три десятка местных потаскушек, кормившихся на этой дискотеке, и выбранная ими делегатка ему ласково и вкрадчиво сказала:
– Дорогой товарищ Горин, уберите вашу подпись с заявления, и мы все тебе по разику дадим!
Но он в соблазн не впал и предпочел переехать.
Гриша спокойно, твердо и с полнейшим пониманием презирал советскую власть. Как я завидовал его такому безучастному отчуждению! И все лучшие пьесы, им написанные, – они вне времени империи и вне ее пространства. Но в общечеловеческом они и времени и пространстве, оттого и останутся как подлинная русская литература. Впрочем, я ведь не некролог пишу – ты, Гриша, в этом месте уже стал бы улыбаться, извини. Не мне тебя хвалить, тебе отменные слова при встрече скажут и Мольер, и Свифт, и Шварц.
В переживании потерь почти всегда есть нескрываемый эгоистический оттенок. Жалко, что общался много меньше, чем хотелось бы, дурак безмозглый, жалко, что ленился (а казалось, что запомнишь навсегда) записывать те разговоры и истории, от которых то щемило сердце, то трясло от смеха. Так у меня от многочасовых разговоров с Юлием Даниэлем сохранилась в памяти одна тюремная байка, которую теперь Саша Окунь рассказывает своим ученикам-художникам как притчу о влиянии на нашу душу цвета.
В одиночной камере Волоколамской тюрьмы постигла Юлия тяжелая депрессия. Уже и жить не очень-то хотелось, и казалось прошлое настолько пустяковым и бессмысленным, что просто обесценивалась жизнь, и засыпать было гораздо легче и нужней, чем просыпаться. Все эти дни курил он очень много, как-то поздно вечером он выкурил последнюю сигарету в очередной пачке, но вставать, чтоб выкинуть ее, не было сил, а бросить на пол не хотелось. Он пустую пачку послюнил чуть-чуть и прилепил на без того шершавую, в острых комках застывшего бетона стену своей камеры. А утром разлепил глаза – скупой свет солнца через грязное окно освещал красно-оранжевый квадрат «Примы» на огромной серой стене. Это было так красиво, что внезапно радость и спокойствие омыли его душу, и ощутимо возвратились силы. «Хуй вам, суки», – сказал Юлий вслух и оживел на все оставшееся время.
Помню, что в ответ я рассказал ему свою излюбленную байку о сравнительной ценности искусства. У нас в лагере за татуировку «Сикстинская мадонна» во всю спину – от шеи до копчика – брали четыре пачки чая, а за небольшую наколку на груди «Битва Руслана с головой» – шесть. И мы еще одну татуировку обсуждали – профиль Ленина над сердцем у матерых блатных. Они ведь это делали совсем не потому, что чекисты, мол, не станут стрелять в Ленина (чекисты стреляли в затылок), – а потому, что это было знаком совершенно иного назначения. Поскольку Ленин – вождь Октябрьской революции, что по первым буквам означало – ВОР, это была семиотика профессиональной принадлежности, и кто ни попадя права не имел такое изобразить.
И хотя затеял я отнюдь не мартиролог ушедших, только самое тут место, чтобы вспомнить, как с отменно выраженным омерзением сказал как-то Зиновий Ефимович Гердт:
– Вот вы все, профессиональные поэты, полагаете, что вы влияете на жизнь, а я, от случая до случая стихи кропая, я как раз на жизнь влиял.
В своем многоэтажном, густо заселенном доме как-то вывесил Зиновий Гердт простое и прекрасное двустишие:
Дорогие, осчастливьте —
перестаньте писать в лифте!
И недели две, судя по запахам, оно действительно на жизнь влияло.
Среди людей, пожизненно запавших мне в душу, помянуть хочу я человека, имени которого не стану называть, поскольку наши отношения раз и навсегда оборвались. Он позвонил мне, когда я вернулся из Сибири, но я холодно и твердо объяснил ему, что впредь общаться я намерен только с теми, кто не исчез, когда меня арестовали, и помогал моей семье хотя бы тем, что не исчез. Он пожелал мне счастья и повесил трубку. Был он математик и философ, писал отменные эссе и здорово переводил стихи с английского. А каждый новый перевод читал он мне обычно по телефону, и мистическое было что-то в этом: он всегда звонил в ту минуту, когда наша семья садилась обедать или ужинать. Это происходило у нас в разное время, но звонок звучал неукоснительно. (Об этой мистике я вспомнил много лет спустя: в нашей квартире в Иерусалиме телефон может молчать весь день – однако только до поры, когда я скрываюсь в туалете, это длится уже много лет – дай Господи, чтоб длилось дальше.) В семьдесят каком-то году он среди бела дня плакал у меня на плече от явно подлинного горя, а я не в силах был удержать смех, утешая его. Это его исключили из коммунистической партии, прознав, что втайне он католик. Но, старик, говорил я рассудительно и нетактично, разберись для себя сам – ты коммунист или католик, это невозможно совмещать, ты лучше радуйся, что всё решили без тебя. Но он меня не слышал и не понимал. Кто-то из почитаемых им ученых одновременно с успехом делал что-то в совершенно иной области, за что порою называл себя двуебом, быть таким же не без основания хотел мой тогдашний приятель, но что можно совмещать, а что – нельзя, он искренне не мог понять.
Так у меня однажды было – на моем только, естественно, уровне. В Архангельске я был в командировке от научно-популярного журнала. И пошел в зоологический музей, который оказался выходным в тот день. Однако же, почтенный представитель уважаемого органа печати, я препроводился в кабинет директорши музея – женщина приятно расцвела и вызвалась водить меня по залам самолично. Я поддерживал, как мог, высокую научную беседу о загадках мирового океана, восхищался редкостными экспонатами, все шло отлично первые полчаса. Но тут мы миновали комнату, где на столах лежали тысячи (ну, сотни) высохших морских ежей, и моя истинная мерзкая натура (хорошо хоть, что вторая, а не главная) взяла верх. Ловким движением руки я скрал ежа себе в коллекцию. Я мог бы получить его, попросив, но это я сообразил потом. Пока что этот шар с сухими острыми колючками длиною сантиметров пять лежал у меня в кармане штанов. А мы спокойно двигались по ставшим бесконечными залам музея. Что делали колючки с нежными частями моего тела, могут себе полностью представить только те, кто пережил по случаю какой-нибудь допрос в стране, где пытки не запрещены. Спасаясь от уколов этих, совершал я пируэты столь диковинные, что смело мог бы поступать в школу балета. Что думала директорша музея о представителе столичной прессы, я не знаю, хотя уверен, что ничего хорошего. И длилось это больше часа. Выйдя из музея, я с остервенением и счастьем выбросил ежа в помойку. И подумал, что наказан я не зря, а за простое и непозволительное человеку желание проявить одновременно обе стороны своей личности. Клянусь, что я подумал это именно тогда, а не приплел сейчас, чтоб сделать притчу из вульгарной юной вороватости.
И вот теперь – самое время вспомнить о подлинной и многолетней раздвоенности моей жизни, когда я работал инженером и уже писал, писал, писал. И даже изредка печатался, что гнало и подхлестывало мой азарт. Работал я электриком-наладчиком в конторе с уже забывшимся названием, после нее были другие, вот и стерлось.
Одна, впрочем, очень солидная, была и раньше: ей благодаря участвовал я в историческом пуске то ли восьмого, то ли девятого турбогенератора на Сталинградской ГЭС (тогда все пуски были историческими). Помню, как часов в шесть утра меня как младшего послали звонить в Москву нашему начальнику.
– Пустили мы ее, проклятую, всю ночь возились, – доложил я гордо и взволнованно.
– А на хер ты меня будил, я еще вчера читал об этом в газетах, – ответил мне начальник.
А контора, где я много лет трудился, занималась пуском разного оборудования на заводах, и чего я там только не налаживал. Начинали мы немедля, как монтажники заканчивали всю проводку, и вменялось нам в первейшую обязанность – за ними проверять всю правильность соединений кабелей и проводов по схеме. Это отнимало жуткое количество времени, а я уже писал рассказы, надо было что-то сочинить, чтоб экономить ценные рабочие часы. Мне в голову пришла тогда идея, мудростью которой восхитятся все, кто понимает в электрических делах. Идея в виде лозунга была, звучала как высокая инструкция: «Включать любой агрегат следует сразу, все, что соединено неверно, – выгорает!» Так мы и стали поступать. Летели предохранители, что-то отказывалось двигаться или крутиться – это было много проще изнурительной прозвонки проводов. Патента на свою идею я просить не стал, уж очень не хотелось тут же вылететь с работы.
Так самозабвенно я трудился на благо общества, пока однажды вечером не зашел ко мне приятель, где-то всю жизнь чем-то руководивший.
– Хочешь, я тебя устрою завтра же на непыльную, но разъездную работу? – спросил он.
Еще бы не хотеть, подумал я, давно пора мне повидать страну лицом к лицу. И сдержанно кивнул. Приятель написал короткую корявую записку, суть которой не была длинней ее самой – прими такого-то, не пожалеешь, я тебе завтра позвоню. На сложенной записке написал он так же лаконично – Рабиновичу. Я засмеялся, и мы сели выпивать. А что мне предстоит, я не спросил, меня тогда не в силах испугать была никакая работа, я на всех работал равно плохо и халтурно.
А назавтра эту записку медленно и вдумчиво читал ее адресат Рабинович, который как раз так и выглядел. А прочитав ее, спросил:
– Скрываетесь от алиментов?
– Нет, – удивленно ответил я.
Он мгновение подумал.
– Алкоголик? – полуутвердительно спросил он с некой грустью.
– Вовсе нет, – ответил я. И это было полной правдой в те года.
Уже раздумий не было, и Рабинович с пониманием сказал:
– Имеете судимость, жить в Москве нельзя.
– Ни разу не судили, – ответил я, провидчески добавив: – пока что.
И задал Рабинович замечательный вопрос:
– А что же вы тогда к нам поступаете?
– Поездить хочется, – сказал я честно.
– Евреи любят ездить, – согласился Рабинович.
Я молчал.
– Особенно в молодости, – настаивал Рабинович.
Другие электронные книги автора Игорь Миронович Губерман
Другие аудиокниги автора Игорь Миронович Губерман
Тюремные Гарики




 4.5
4.5
Пожилые записки




 4.5
4.5