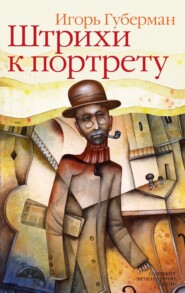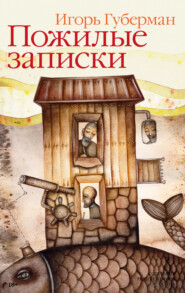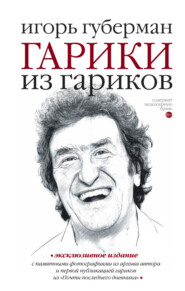По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга странствий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне снова было нечего возразить.
– Пишите заявление, я завизирую, идите к главному энергетику, – сухо сказал мой будущий начальник (дивным и спокойным ко всему на свете оказался позже человеком).
Главный энергетик сидел этажом выше и понравился мне с первого взгляда, мы потом с ним очень подружились. Был он из приволжских немцев, побывал некогда в лагере, начитан был, умен и тоже горестно спокоен. С ним решил я для проверки пошутить и, сев возле стола его, сказал, как будто упреждая:
– Я не алкоголик, не скрываюсь от алиментов и ни разу не судим.
– Это говорит о вас негативно, – холодно откликнулся еще один мой будущий начальник. – Будьте добры подождать в коридоре, мне надо позвонить.
Думая растерянно и с интересом о загадочной конторе, я курил и ждал. И тут ко мне вдруг подошел средних лет и очень интеллигентного вида человек, попросил огня, прикурил, выдохнул дым и вежливо спросил, не я ли тот новый прораб, что сейчас к ним поступает на работу. Я утвердительно кивнул. И человек сказал, очень прямо глядя на меня:
– Вам будут говорить, что мы прорабов посылаем на хуй, вы не верьте, они у нас сами идут.
Он повернулся и ушел, ступая медленно и по-хозяйски. А меня позвали оформляться.
Контора эта ставила по всей империи (особенно где было крупное строительство) земснаряды – эдакие огромные баржи с насосами и глубоким хоботом, уходящим на дно водоема. Земснаряд высасывал землю, углубляя дно водоема, а пульпа – земля с водой – подавалась по трубам в другое место, где надо было сделать сушу. Такие вот могучие плоды технического разума я запускал в ход после того, как монтажники ставили на баржу все необходимое оборудование. С этой бригадой монтажников мне и предстояло ездить. Через день мы уже были все вместе в маленьком городке недалеко от Москвы, носящем почему-то гордое название – Суворов. Там в центре городка стоял даже памятник полководцу: Суворов был, как полагается, маленького роста, очень прямой и гордый, а лицо – чистый Белинский у постели больного Гоголя. Это, по всей видимости, символизировало гуманизм российской завоевательной политики. Я поселился в маленькой гостинице, а вся бригада моих монтажников нашла какое-то общежитие. Недели две мы молча приглядывались друг к другу. Я бродил по палубе и трюмам этой баржи, наблюдая за монтажом, бегал ругаться, что запаздывает нужный кабель и необходимые приборы, быстро убедился в полной сплоченности бригады и в беспрекословном подчинении ее тому интеллигентного вида бригадиру Михалычу, что сообщил мне, что прорабов они на хуй не посылают. Я им не очень-то и нужен был, работали они сплоченно и очень грамотно – прорабом, собственно, и был у них всезнающий Михалыч, я как наладчик нужен был последние два-три дня (чем я впоследствии и пользовался без зазрения совести). Должно быть, потому и уходили от них прорабы, что бывали посылаемы при попытках вмешаться и поправить. Мне это и в голову не приходило, уже дня через три я хищно и сладострастно сообразил, что явно свободен и могу сидеть в гостинице, изводя чистую бумагу. А через две недели все стало на свои места и прояснилось полностью, включая те вопросы Рабиновича. За мной в субботу утром прибежал мальчонка-приборист (лет двадцать ему было, самый младший среди нас) и попросил прийти в общежитие – бригада просит, сказал он. И я пошел, конечно. Все они сидели в одной комнате, сгрудившись тесно вокруг стола с водкой, колбасой и солеными огурцами. Выпили они уже изрядно (часов одиннадцать утра), все сидели в майках, и такое множество татуировок украшало каждого, что даже юный пионер немедля понял бы, где провели они значительную часть своих цветущих жизней. Мне освободили табуретку, налили стакан и на ломоть хлеба положили колбасу, украсив половинкой огурца. Все было молча и торжественно, хотя по лицам собригадников бродило некое расположение – мне предстояла явная приятность. Я готовно взял стакан.
– Мы к тебе, Мироныч, присмотрелись, чуть между собой поговорили, – медленно сказал Михалыч, – все к тому идет, что ты нам подходишь.
А я был молодого гонора исполнен в те года.
– Вы мне тоже, – ответил я. Не лошадь же они себе купили.
Михалыча перебивать не следовало, я непозволительно снижал важность задуманной процедуры. Он чуть сощурился, и тут же тень пробежала по всем лицам. Но он сдержался и меня не осадил.
– Так вот я и говорю, – продолжил он так же размеренно, – что ты нам годишься, и работай на здоровье. Только у меня к тебе одна просьба: когда будешь заполнять наряды, без меня это не делай, мне видней, кто как работал в этот месяц. Сговорились?
– А я могу тебе отдать их заполнять, если бригада согласна, – ответил я покладисто, – мне это по хую, я распишусь только в конце, а все претензии ребят тогда к тебе.
– Так не пойдет, Мироныч, – снисходительно объяснил мне бригадир, – с тебя начальство глаз не спустит, когда ты деньги станешь нам выписывать, наряды на тебе, я только одним глазом должен глянуть, так посправедливей будет. Ты согласен?
– Не о чем говорить, – сказал я.
– За все хорошее, – сказал Михалыч, поднимая стакан.
Засиживаться я не стал, открытым текстом объяснив, на что я трачу время. Что я именно пишу, я не сказал, мне самому не очень ясно это было. Тем более, сказал Михалыч, и вся бригада дружно засмеялась. С тех пор свою бригаду видел я урывками, хотя являлся каждый день на час-другой, чтоб не застукало местное начальство. Что пересидели хоть по разу они все, я понял еще в ту субботу, а за что именно каждый, мне узнать не удалось, хотя свербило любопытство постоянно. Просто я однажды спросил об этом самого младшего: мол, ты за что? Он мне ответил, улыбаясь во весь рот:
– Любил, Мироныч, я по магазинам походить.
– За это разве садят? – изумился я наивно.
– Я ходил в ночное время, – пояснил мне собеседник.
А назавтра (или в тот же день) отозвал меня Михалыч в сторону, сказал, что все меня ребята уважают, но расспрашивать, за что они сидели, среди нас не принято, Мироныч, ты ведь не по кадрам и не мент. Сговорились?
– Извини, – ответил я, – не знал и не подумал. Больше не спрошу ни у кого. Вот разве только у тебя, Михалыч, ты прости, уж очень интересно.
– А меня о чем угодно, – сказал Михалыч, – я, видишь ли, Ленина рисовал.
Уже напичканный в те годы всяким самиздатом, я воскликнул, фраер, с радостной наивностью:
– Карикатуры что ли?
Мой Михалыч с омерзением поморщился:
– Какие на хуй карикатуры? Я его на деньгах рисовал.
Из редкостной породы уголовников – он был фальшивомонетчиком, бригадир Михалыч, а отсюда, как мне кажется, проистекала и видимая интеллигентность его облика. Сидел он уже трижды, но срока были недолгие всегда.
– Хороший адвокат? – спросил его немедля я.
Он засмеялся так, что я бы мог обидеться, но любопытный фраер был во мне сильнее гонора.
– Мироныч, – объяснил мне бригадир, – адвокат хорош любой, чтоб денежки носить судье и прокурору, он затем только и нужен. Только не моего изготовления, конечно, денежки. Есть еще вопросы?
У меня их было много, но хватило такта промолчать. А Михалыч после разговора нашего терял порой свою солидность и подмигивал, меня встречая, – мне это было лестно и приятно.
Только вскоре я женился, с разъездной работой надо было заканчивать, и я ушел из дивной той конторы. Вышла, как я уже упоминал, первая толстая книжка, и мгновенно я вкусил сладость авторского чувства. Именно с женитьбой это оказалось связано, точней – со свадьбой.
Недавно мы с женой, гостей не созывая, тихо выпили за тридцать пять лет нашего супружества де-юре, помянув тем самым день, когда ходили в загс. А та же дата нашей близости де-факто праздновалась нами на год раньше, ибо именно ее я полагаю подлинной точкой отсчета, отметку в паспорте считая пустяком и формальностью. И мне жена сказала с чисто женской мудростью, что де-факто – это мой праздник, а ее праздник – де-юре.
Так вот, за несколько дней до этого праздника я ездил в Киев, а когда в доме приятеля кончилась водка, вызвался сбегать, и в очереди этой у меня украли паспорт. Я вернулся без него, и что подумала об этом моя теща, она призналась много позже. Поменять в те годы паспорт можно было месяца за два, а в загсе нам было назначено уже через три дня, и гости позваны. Я пошел к начальнику паспортного отдела нашей районной милиции, а для начала разговора подарил ему свою книжку, где уже были написаны слова благодарности. Эффект превзошел все ожидания. Начальник лично отнес мое заявление паспортистке, клятвенно меня заверил, что через три дня утром (загс был днем) получу я новый паспорт, и спросил, не может ли он быть полезен чем-нибудь еще. Спасибо, нет, вы чистый благодетель, заверил я его, в ответ на что он доверительно спросил, не с умыслом ли я утратил паспорт, потому что в этом случае он с легкостью растянет мое дело на полгода. Нет, ответил я, и мы с ним посмеялись зрелым мужским смехом. Только принесите паспортистке коробку конфет, предупредил он меня, прощаясь, она у меня баба с норовом, а все теперь зависит от нее.
Надо ли говорить, что в этот день я с самого утра уже торчал в милиции? Паспортистка с лицом тюремной надзирательницы (через пятнадцать лет я видел много таких лиц) сказала сухо, что еще не все подписано, как должное взяла коробку конфет, спокойно вытащив ее из газеты, куда я трусливо спрятал свою мелочную взятку, но пообещала к часу дня успеть. Ну, словом, опоздал я в загс всего минут на сорок, и жена мне это помнит до сих пор. Но главное я обнаружил только в загсе: видимо, коробка показалась этой бабе несколько мала на фоне сделанного мне благодеяния, поэтому все пункты в паспорте были заполнены нормально маленькими буквами, а в графе национальности слово «еврей» – огромными и прописными. Очень я любил тот паспорт и жалею об утрате до сих пор.
А книжка эта привела меня спустя несколько лет на студию научно-популярного кино, где я кропал сценарии, и до поры все было хорошо. Но как-то главному редактору пришла идея что-нибудь приятное мне сделать и при всех: покинув кабинет, зашел он в комнату редакторов, где я толпился, и сказал:
– Какие-нибудь если есть у вас задумки, пишите мне заявку, я с вами немедленно заключаю договор на фильм.
Задумок было в изобилии, но об одной я точно знал, что не пройдет, а мой язык уже заговорил как раз о ней. Поскольку накануне я на пьянке у приятеля услышал об ученых, работающих под мавзолеем, – занимались они постоянным охлаждением и вообще сохранностью мумии Владимира Ильича. И вроде бы не столь уж были засекречены, чтобы нельзя было о них писать.
– Что ж, тема для сценария хорошая, – сказал начальник неуверенно, но трусить прямо при сотрудниках он не решился. – Узнайте только, разрешат ли съемки. И название какое-нибудь надо, чтоб достойно было темы.
С ним наедине, в служебном кабинете, из которого исходило, в сущности, все тогдашнее пропитание моей семьи, я был бы собран и воздержан на язык. Но тут сидело столько зрителей!
– Название уже готово, – доложил я преданно и бодро.
Главный редактор поощрительно вздернул брови.
– Ленин умер, но тело его живет, – сказал я. Сдавленное хрюканье за спиной одобрило мой творческий порыв. Но на дворе был год семидесятый.
– Прошу вас покинуть студию и некоторое время тут не появляться, – сказал редактор тоном ровным и не оставляющим сомнений. А когда он вышел, те же, что смеялись, принялись меня ругать за легкомыслие.
– Через месяц приходи спокойно, – утешили меня двурушники, – он тебя выгнал очень мудро, а за этот месяц выяснится, что никто не настучал.
Конечно же, язык – весьма сомнительный нам друг, но в жесте – даже самом дружелюбном – кроется опасность еще большая. Так Саша Окунь чуть не развязал однажды крупный дипломатический конфликт между Израилем и Колумбией. Его куда-то пригласили на прием, он крепко выпил и решил, что еще рюмки через две непременно схватит за попку молодую полуобнаженную красотку, сидевшую с ним почти рядом – всего через одного человека. Но когда он потянулся, чтоб исполнить замысел, то обнаружил, что немного перепил и падает, в силу чего схватил за зад соседа. Оказался тот послом Колумбии, а неухваченная красотка – послицей. Охнув, посол от ужаса обнаружил знание русского языка:
– Товарищ! – гневно сказал он.
– Пишите заявление, я завизирую, идите к главному энергетику, – сухо сказал мой будущий начальник (дивным и спокойным ко всему на свете оказался позже человеком).
Главный энергетик сидел этажом выше и понравился мне с первого взгляда, мы потом с ним очень подружились. Был он из приволжских немцев, побывал некогда в лагере, начитан был, умен и тоже горестно спокоен. С ним решил я для проверки пошутить и, сев возле стола его, сказал, как будто упреждая:
– Я не алкоголик, не скрываюсь от алиментов и ни разу не судим.
– Это говорит о вас негативно, – холодно откликнулся еще один мой будущий начальник. – Будьте добры подождать в коридоре, мне надо позвонить.
Думая растерянно и с интересом о загадочной конторе, я курил и ждал. И тут ко мне вдруг подошел средних лет и очень интеллигентного вида человек, попросил огня, прикурил, выдохнул дым и вежливо спросил, не я ли тот новый прораб, что сейчас к ним поступает на работу. Я утвердительно кивнул. И человек сказал, очень прямо глядя на меня:
– Вам будут говорить, что мы прорабов посылаем на хуй, вы не верьте, они у нас сами идут.
Он повернулся и ушел, ступая медленно и по-хозяйски. А меня позвали оформляться.
Контора эта ставила по всей империи (особенно где было крупное строительство) земснаряды – эдакие огромные баржи с насосами и глубоким хоботом, уходящим на дно водоема. Земснаряд высасывал землю, углубляя дно водоема, а пульпа – земля с водой – подавалась по трубам в другое место, где надо было сделать сушу. Такие вот могучие плоды технического разума я запускал в ход после того, как монтажники ставили на баржу все необходимое оборудование. С этой бригадой монтажников мне и предстояло ездить. Через день мы уже были все вместе в маленьком городке недалеко от Москвы, носящем почему-то гордое название – Суворов. Там в центре городка стоял даже памятник полководцу: Суворов был, как полагается, маленького роста, очень прямой и гордый, а лицо – чистый Белинский у постели больного Гоголя. Это, по всей видимости, символизировало гуманизм российской завоевательной политики. Я поселился в маленькой гостинице, а вся бригада моих монтажников нашла какое-то общежитие. Недели две мы молча приглядывались друг к другу. Я бродил по палубе и трюмам этой баржи, наблюдая за монтажом, бегал ругаться, что запаздывает нужный кабель и необходимые приборы, быстро убедился в полной сплоченности бригады и в беспрекословном подчинении ее тому интеллигентного вида бригадиру Михалычу, что сообщил мне, что прорабов они на хуй не посылают. Я им не очень-то и нужен был, работали они сплоченно и очень грамотно – прорабом, собственно, и был у них всезнающий Михалыч, я как наладчик нужен был последние два-три дня (чем я впоследствии и пользовался без зазрения совести). Должно быть, потому и уходили от них прорабы, что бывали посылаемы при попытках вмешаться и поправить. Мне это и в голову не приходило, уже дня через три я хищно и сладострастно сообразил, что явно свободен и могу сидеть в гостинице, изводя чистую бумагу. А через две недели все стало на свои места и прояснилось полностью, включая те вопросы Рабиновича. За мной в субботу утром прибежал мальчонка-приборист (лет двадцать ему было, самый младший среди нас) и попросил прийти в общежитие – бригада просит, сказал он. И я пошел, конечно. Все они сидели в одной комнате, сгрудившись тесно вокруг стола с водкой, колбасой и солеными огурцами. Выпили они уже изрядно (часов одиннадцать утра), все сидели в майках, и такое множество татуировок украшало каждого, что даже юный пионер немедля понял бы, где провели они значительную часть своих цветущих жизней. Мне освободили табуретку, налили стакан и на ломоть хлеба положили колбасу, украсив половинкой огурца. Все было молча и торжественно, хотя по лицам собригадников бродило некое расположение – мне предстояла явная приятность. Я готовно взял стакан.
– Мы к тебе, Мироныч, присмотрелись, чуть между собой поговорили, – медленно сказал Михалыч, – все к тому идет, что ты нам подходишь.
А я был молодого гонора исполнен в те года.
– Вы мне тоже, – ответил я. Не лошадь же они себе купили.
Михалыча перебивать не следовало, я непозволительно снижал важность задуманной процедуры. Он чуть сощурился, и тут же тень пробежала по всем лицам. Но он сдержался и меня не осадил.
– Так вот я и говорю, – продолжил он так же размеренно, – что ты нам годишься, и работай на здоровье. Только у меня к тебе одна просьба: когда будешь заполнять наряды, без меня это не делай, мне видней, кто как работал в этот месяц. Сговорились?
– А я могу тебе отдать их заполнять, если бригада согласна, – ответил я покладисто, – мне это по хую, я распишусь только в конце, а все претензии ребят тогда к тебе.
– Так не пойдет, Мироныч, – снисходительно объяснил мне бригадир, – с тебя начальство глаз не спустит, когда ты деньги станешь нам выписывать, наряды на тебе, я только одним глазом должен глянуть, так посправедливей будет. Ты согласен?
– Не о чем говорить, – сказал я.
– За все хорошее, – сказал Михалыч, поднимая стакан.
Засиживаться я не стал, открытым текстом объяснив, на что я трачу время. Что я именно пишу, я не сказал, мне самому не очень ясно это было. Тем более, сказал Михалыч, и вся бригада дружно засмеялась. С тех пор свою бригаду видел я урывками, хотя являлся каждый день на час-другой, чтоб не застукало местное начальство. Что пересидели хоть по разу они все, я понял еще в ту субботу, а за что именно каждый, мне узнать не удалось, хотя свербило любопытство постоянно. Просто я однажды спросил об этом самого младшего: мол, ты за что? Он мне ответил, улыбаясь во весь рот:
– Любил, Мироныч, я по магазинам походить.
– За это разве садят? – изумился я наивно.
– Я ходил в ночное время, – пояснил мне собеседник.
А назавтра (или в тот же день) отозвал меня Михалыч в сторону, сказал, что все меня ребята уважают, но расспрашивать, за что они сидели, среди нас не принято, Мироныч, ты ведь не по кадрам и не мент. Сговорились?
– Извини, – ответил я, – не знал и не подумал. Больше не спрошу ни у кого. Вот разве только у тебя, Михалыч, ты прости, уж очень интересно.
– А меня о чем угодно, – сказал Михалыч, – я, видишь ли, Ленина рисовал.
Уже напичканный в те годы всяким самиздатом, я воскликнул, фраер, с радостной наивностью:
– Карикатуры что ли?
Мой Михалыч с омерзением поморщился:
– Какие на хуй карикатуры? Я его на деньгах рисовал.
Из редкостной породы уголовников – он был фальшивомонетчиком, бригадир Михалыч, а отсюда, как мне кажется, проистекала и видимая интеллигентность его облика. Сидел он уже трижды, но срока были недолгие всегда.
– Хороший адвокат? – спросил его немедля я.
Он засмеялся так, что я бы мог обидеться, но любопытный фраер был во мне сильнее гонора.
– Мироныч, – объяснил мне бригадир, – адвокат хорош любой, чтоб денежки носить судье и прокурору, он затем только и нужен. Только не моего изготовления, конечно, денежки. Есть еще вопросы?
У меня их было много, но хватило такта промолчать. А Михалыч после разговора нашего терял порой свою солидность и подмигивал, меня встречая, – мне это было лестно и приятно.
Только вскоре я женился, с разъездной работой надо было заканчивать, и я ушел из дивной той конторы. Вышла, как я уже упоминал, первая толстая книжка, и мгновенно я вкусил сладость авторского чувства. Именно с женитьбой это оказалось связано, точней – со свадьбой.
Недавно мы с женой, гостей не созывая, тихо выпили за тридцать пять лет нашего супружества де-юре, помянув тем самым день, когда ходили в загс. А та же дата нашей близости де-факто праздновалась нами на год раньше, ибо именно ее я полагаю подлинной точкой отсчета, отметку в паспорте считая пустяком и формальностью. И мне жена сказала с чисто женской мудростью, что де-факто – это мой праздник, а ее праздник – де-юре.
Так вот, за несколько дней до этого праздника я ездил в Киев, а когда в доме приятеля кончилась водка, вызвался сбегать, и в очереди этой у меня украли паспорт. Я вернулся без него, и что подумала об этом моя теща, она призналась много позже. Поменять в те годы паспорт можно было месяца за два, а в загсе нам было назначено уже через три дня, и гости позваны. Я пошел к начальнику паспортного отдела нашей районной милиции, а для начала разговора подарил ему свою книжку, где уже были написаны слова благодарности. Эффект превзошел все ожидания. Начальник лично отнес мое заявление паспортистке, клятвенно меня заверил, что через три дня утром (загс был днем) получу я новый паспорт, и спросил, не может ли он быть полезен чем-нибудь еще. Спасибо, нет, вы чистый благодетель, заверил я его, в ответ на что он доверительно спросил, не с умыслом ли я утратил паспорт, потому что в этом случае он с легкостью растянет мое дело на полгода. Нет, ответил я, и мы с ним посмеялись зрелым мужским смехом. Только принесите паспортистке коробку конфет, предупредил он меня, прощаясь, она у меня баба с норовом, а все теперь зависит от нее.
Надо ли говорить, что в этот день я с самого утра уже торчал в милиции? Паспортистка с лицом тюремной надзирательницы (через пятнадцать лет я видел много таких лиц) сказала сухо, что еще не все подписано, как должное взяла коробку конфет, спокойно вытащив ее из газеты, куда я трусливо спрятал свою мелочную взятку, но пообещала к часу дня успеть. Ну, словом, опоздал я в загс всего минут на сорок, и жена мне это помнит до сих пор. Но главное я обнаружил только в загсе: видимо, коробка показалась этой бабе несколько мала на фоне сделанного мне благодеяния, поэтому все пункты в паспорте были заполнены нормально маленькими буквами, а в графе национальности слово «еврей» – огромными и прописными. Очень я любил тот паспорт и жалею об утрате до сих пор.
А книжка эта привела меня спустя несколько лет на студию научно-популярного кино, где я кропал сценарии, и до поры все было хорошо. Но как-то главному редактору пришла идея что-нибудь приятное мне сделать и при всех: покинув кабинет, зашел он в комнату редакторов, где я толпился, и сказал:
– Какие-нибудь если есть у вас задумки, пишите мне заявку, я с вами немедленно заключаю договор на фильм.
Задумок было в изобилии, но об одной я точно знал, что не пройдет, а мой язык уже заговорил как раз о ней. Поскольку накануне я на пьянке у приятеля услышал об ученых, работающих под мавзолеем, – занимались они постоянным охлаждением и вообще сохранностью мумии Владимира Ильича. И вроде бы не столь уж были засекречены, чтобы нельзя было о них писать.
– Что ж, тема для сценария хорошая, – сказал начальник неуверенно, но трусить прямо при сотрудниках он не решился. – Узнайте только, разрешат ли съемки. И название какое-нибудь надо, чтоб достойно было темы.
С ним наедине, в служебном кабинете, из которого исходило, в сущности, все тогдашнее пропитание моей семьи, я был бы собран и воздержан на язык. Но тут сидело столько зрителей!
– Название уже готово, – доложил я преданно и бодро.
Главный редактор поощрительно вздернул брови.
– Ленин умер, но тело его живет, – сказал я. Сдавленное хрюканье за спиной одобрило мой творческий порыв. Но на дворе был год семидесятый.
– Прошу вас покинуть студию и некоторое время тут не появляться, – сказал редактор тоном ровным и не оставляющим сомнений. А когда он вышел, те же, что смеялись, принялись меня ругать за легкомыслие.
– Через месяц приходи спокойно, – утешили меня двурушники, – он тебя выгнал очень мудро, а за этот месяц выяснится, что никто не настучал.
Конечно же, язык – весьма сомнительный нам друг, но в жесте – даже самом дружелюбном – кроется опасность еще большая. Так Саша Окунь чуть не развязал однажды крупный дипломатический конфликт между Израилем и Колумбией. Его куда-то пригласили на прием, он крепко выпил и решил, что еще рюмки через две непременно схватит за попку молодую полуобнаженную красотку, сидевшую с ним почти рядом – всего через одного человека. Но когда он потянулся, чтоб исполнить замысел, то обнаружил, что немного перепил и падает, в силу чего схватил за зад соседа. Оказался тот послом Колумбии, а неухваченная красотка – послицей. Охнув, посол от ужаса обнаружил знание русского языка:
– Товарищ! – гневно сказал он.
Другие электронные книги автора Игорь Миронович Губерман
Другие аудиокниги автора Игорь Миронович Губерман
Тюремные Гарики




 4.5
4.5
Пожилые записки




 4.5
4.5