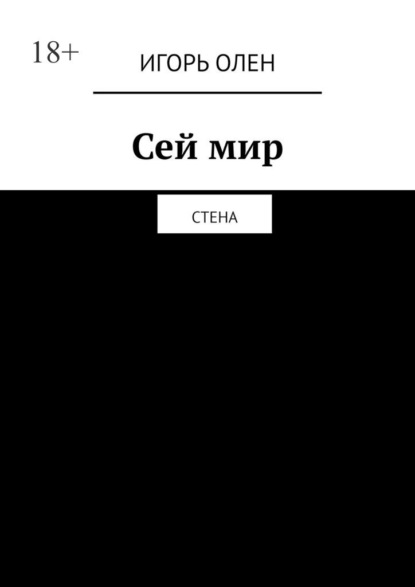По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сей мир. Стена
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ей! – толковал он. – Сладок яд знания! Людям, милочка, сладко знать. Здесь позор человечества, здесь первейшая тайна; наш первородный, стало быть, грех здесь!.. Ты, слышал, мать была? Я скажу, ты восчувствуй: мать, как ни любит дочь, как ни хочет ей вечности, а познаньем мертвит её. Как? – а так, чтоб о чаде до точки знать. Знать же нужно ей, чтоб неволить дочь. Пусть она дочь и любит, даже умрёт за дочь, а вот разум объять дочь хочет, чтоб всё понять про дочь и облечь её знанием, как цепями невольника. Ибо цель его – властвовать и давить Жизнь. Люди решили: знать есть «добро» для них. Не любовь к дитю либо к Богу, но осознание, что ты любишь, – вот что мы ищем, а не любовь саму, какова, коль непознана, – зло, недуг и безумие, большинством полагается. Осознание нам давай и знание. Это, милочка, в пагубу! Зная, чувствуешь не по-райскому, поступаешь неистинно, а как вздумал знать. Катастрофа и ужас – знать! Ибо знание, портя разум, чтоб он имел тьму смыслов, травит в нас полную и безумную страсть к Христу, Кой весь в том, скажу, что Его осудившие и распявшие умники, утолённые, как султан в гареме, и одолевшие, мнили, Бога в сознании, дабы досыта, вольно мыслить, были растоптаны Воскресением, сплошь бессмысленным по рассудку их! Первородный грех есть познание от добра и от зла; он – деланье той реальности, кою мнит оно, то познание: дескать, доброе – что от разума, а всё зло – от безумия. Но Христос воскрес – и не стало стен! и конец вещам да разумному «non» пред «fiat»[10 - Да будет! (лат.).]! Нет их разумной точки над Богом с Божьим «да будет», кое простёрло Жизнь за их знание! А коль так – не цени ничуть, что вокруг тебя, и не будь своей в сём губительном мире. Здесь – сочинённый мир, и не будучи в нём, ты – будешь. Выйди из разума и дерзай в смерть! – крикнул Зосима.
Римма сидела, не понимая, что он внушает, лишь трепетала.
– Спать хочу… – она ляпнула, но Зосима не слышал.
– Страшное, – вёл он в свете лампады возле келейных икон в углу сам собой, но и тенью по потолку и стенам, – страшное, что меня смущает, что стоит библии и философов и в них явлено, хоть скрываемо, ибо род людской взял гордиться обратным, но живоносное и как раз всем нам нужное, от чего обмираю я, есть немыслие. От познания зла-добра пошло, что мы впали в кошмары. Раем закончится, если вырыгнем страшный пагубный плод! Нам что в этом мире, коего нет, скажи? Ничего в нём нет!
Римме чудилось, она сходит с ума.
– Ей! нет тебя. И меня нет, и твоей дочки нет, и грехов нет. Нету России, церкви, компьютеров. Есть сознание, что всё это имеется, столь похожее на действительность Божью.
– Грех – с неразумия, – прервала его Римма. – Мне духовник сказал! Он мне так сказал: «Анна, ты не подумавши, но влекома безумием согрешила. Если бы знала – не согрешила»… Правильно! Я не знала добра тогда. Нужно знать добро!
Но ей вылилось от разымчивого монашка с редкой бородкой и со скуфьёй в руке: – В Божьем древнем эдеме не было зла-добра, которые – как Харибда и Сцилла для человеков. А как их начали – вмиг свобода исчезла, рай повалился; сразу и Бог исчез. Ведь какая свобода, ежели выбрали власть добра, а, милочка? если нашим кумиром стало добро? Им рай и жизнь ограничились и венчаются смертью – «смертью умрёте», как нам Господь сказал. Мы, дщерь, умерли, и что б, мёртвые, мы ни делали – тщетно. Ведь, – оглянулся он на задверный скрип, – в склепе нашем, в этом вот мире: в ярком нью-йоркском, в манком парижском, в русском ли смутном, – и во вселенной всей с её звёздами и с моралью в нас, – Бога нет уже. Ибо здесь мы суть падшие… Или Бог с нами тоже пал? рухнул в скверну, считаешь, дабы быть с теми, кто изгонял Его злом-добром от разума? кто своим самоделкам начал молиться? кто обложил себя сочинёнными нормами, обозвав их предвечными, и им внемлет? кто в клетке зла и добра засел, отстранившись от Бога? Ей! мы воистину лишь понятиям служим, веруя, что они нам добро несут. А какое добро? Обманное, человечье! Бог вот нам Сына дал – Сын не смог здесь быть… Только вчувствуйся: Сын не смог здесь быть!! Стал Сын Божий – преступник в нашем добре и зле, как написано, что с Христом будет так, что убийц помилуют, а Его не помилуют. Если Сын есть Отец – то и Тот в преступниках?! Значит, вот как мы? Значит, в Бога добром своим как штыком суём?! Верить ох как непросто! Верить в «миру сём» – разум оставить. Верить – ничто не чтить, ибо всё не от веры – грех.
– О! – плакала Римма.
Старец приблизился; он светлел лицом вроде некой лампады.
– Верить – забыть про ум! В Боге нет добра; но и зла в Нём нет. Бог, Он нормой не ходит, нашим идеям не услужает. Точку над Богом смыслом не выставишь, и законом не выставишь, и моралью, и физикой. Всей наукой не выставишь! Я скажу… Я давно молчал, а Бог Жи?вый исполнился. Для Него дважды два – пятнадцать, тридцать и утка, как Он захочет, и, коль есть небо, не обязательно, чтоб земля была. Осквернённое в Нём – невинно; бывшее в Нём – небывшее; нет в Нём прошлого; нет имён и деяний, гор нет и долов. Вера – вот путь к Нему! В Бога верящий здесь – преступник; в славе здесь – каста в Бога не верящих. Эти думают, что-де Бог для них, что-де Бог дал им царствовать, что-де Бог и Христа послал, чтоб спасти их, разумных, властных, имущих. Лгут они! Ибо, – взяв Римму за руку, говорил ей Зосима кукольным личиком с вострым носиком, – Бог есть Жи?вый! Он изволяет, Он предрешает! Как от Адама грех – так и некто, хоть бы и ты, дщерь, может нам рай вернуть. Умных Богу не надо, также учёных и образованных. Но явись кто один из нас с полной истинной верой – Бог сокрушит грех! Всей веры, чувствую, не имел ни Аврам, ни Сара, ни Моисей, ни Пётр-апостол, ни даже, милочка, – зашептал монах, – Сам Христос наш Бог, Кто, как Сын Человеческий, нас учил всегда, что и малостью веры труп оживляют. Он нас спасать пришёл, но не смог спасти, не восхи?тил, не возвратил рай. Значит, не верил… Верь, то есть, милочка! Так что если поверишь в дважды два тридцать – быть тому. А поверишь, что ты от Бога, но не от разума – вмиг эдем пойдёт, в коем лев ест петунии и шакал спит с агнцем. Скажешь горе – та стронется; мёртвым скажешь – задышат. Ей! скажешь: «мир, прейди!» – и прейдёт мир. – Он говорил уже, отпустив руку Риммы и много тише, взором ушед в себя: – Ты язык позабудешь, нормы, законы. Станешь Христом, Кой, сшедши, всех нас помилует… Как хочу полным верой быть!! – Старичок вдруг махнул скуфьёй. – Как вокруг нас быть Истине, если с Божьей безмерности и свободы взяты лишь зло с добром?!
Римма сжалась от страха. Так ей не надобно; ей хотелось не споров, но чтобы бог как-то внял ей, бедной, несчастной и, в целом, доброй, чтобы вернул ей время до Даны. Вкупе и Ельцина чтобы не было, и распада страны с Барыгисом, и она бы писала ясную графику с киверами гусар и с юными патриотками, благородными девами, в тех героев влюблёнными, получала бы премии, отдыхала в Пицунде, на Соловках… Зосима её расстроил; боль не уменьшилась, но металась встревоженно; не слагался порядок, как, она мнила, следует от бесед с провидцами. Бог от странных слов инока взмыл из доброго в некто жуткого, созидающего сумбурно, не от «добра», как хочется человечеству, а как вздумал он, этот бог, – кой, следственно, вправе дать не «добро», как просишь, а дать кошмарное, что за рамками и добра, и логики. Получается, Бог безумный?! Но, так как это не Может быть, ибо в книгах бог добрый, то, получается, лжёт Зосима, что непохож на сдержанных, чинных клириков, наезжавших в обитель и укреплявших инокинь словом. Этот же дёрганный, что почти ей в лицо кричит, – психопат, оттого и запрет ему исповедовать… Римма вжалась в стул, отклонясь от монашека, что стоял над ней, не желая выслушивать вздор от жалости к самоё себе, изнасилованной мужчиной да и всей жизнью – и угодившей к психу в том месте, где от дурдома мыслила спрятаться.
Дверь открылась игуменьей (Марфой) с присными.
– Ночью с женщиной?! – завела она зычно. – Что это, отче, ты распускаешься? Мне отец Вассиан велел, что не надо с людьми тебе вообще быть, раз ты юродивый.
Римма бросилась целовать длань Марфы. – Нет, я сама!.. Я в храм пошла и там… в обморок. Он меня проводил, помог мне…
– Аз многогрешный… – выпалил инок[11 - Инок здесь и далее употребляется в древнерусском значении от «инъ», иной, не от мира сего.], выскользнув.
– Я, – игуменья крякнула, – не грешу на убогого, как Зосима наш. Но отец Вассиан сказал, рассуждать горазд этот маленький старец; неканоничен он. Кабы не был юродивым, то священства лишился бы. Вот он сказки врёт – можешь слушать; но вот шептаться – твёрдый запрет кладу. Дьявол праведных портит… Что же ты в обморок? Верно, регулы?
– Да, – врала Римма, – регулы… – И, когда все ушли, легла.
Без инока стало легче, точно разлад в ней, скорби и случай с мерзким зловонным хамом Барыгисом порождён Зосимою.
Неожиданно муки снова нахлынули. Она встала поправить стул, стол, иконки… Час поправляла, бегая в келье, как угорелая, но порядок не вышел, и Римма вновь легла, ухватясь теперь за кровать руками, ибо вся утварь вдруг закружилось… «Вот!! – она плакала в истерической радости. – Хорошо, что Сам Бог недобр! Пусть, пусть царствует хаос!! Пусть в мире Дана и вас насилуют! Пусть мы все поплавки в волнах! Бог, наверно, не хочет, дабы был лад во всём, а Он хочет недоброго, хаотичного, чтоб теснить добро, чтоб рождались бы Даны и чтоб я маялась!»
Месяц Римма трудилась. В тон Городецкой, роспись её шла в сбыт по яркости женского молодого бедра и воинства в киверах при сабельках. Приезжал духовник; она ему тайн не выдала, лишь покаялась, что некрепкая в вере. Сказано было богу молиться, также и плоть смирять. Сёстрам в том числе не открыла тайн: близнецы не поймут, шальные; немка не русская и хоть молится, но ей всё как кино; дизайнер, вспомнив семью свою, может вдруг оскорбиться; прочие… Как им всем объяснить, что дочь её монструозная?!
Был декабрь. С мастерской наблюдались шири полей вдали, мгла небес, крапь ворон – и Зосима в тулупе, спихивающий снег к клумбам либо меняющий на столбе фонарь; а далее то несущий к складу поделки, то бьющий в колокол на высокой их звоннице. Римма, хоть береглась его в рассуждении, что он рушит в ней принципы, – но вокруг не спрямлялось и даже вкривь ползло. Ей в Писании часто стало казаться, что за написанным как бы фон сквозит и сказал бог не то, что в буквах, но на иной «губе» бог внушает иное. Бог не в словах людских. Потому-то мы, слыша, бога не слышим, видя, не видим. О, не в словах бог, чуяла Римма!.. Съездила на аборт в Москву, и всё мучилась. В келье каялась, в храме к раке бл. Власия припадала – но совершенно пуста была. Ей казалось, что бог не в текстах, что и не мог он павшим, то есть предателям, рай отвергнувшим, говорить на их новом лживом наречии, что бы значило: бог за павшими в первородном грехе пошёл, бог пошёл за избравшими познавать зло/добро от их разума, дабы впредь играть по их правилам, то есть вставиться в ум их… Да, безусловно, впало вдруг Римме: бог – не в словах, не в терминах! В храме трогала она крест, чтоб чувствовать бога «Жи?вого», как означил Зосима, также ладони робко в кивот ввела, грызла жертвенник… Бога не было. Всё творилось в миру вокруг, будто бог ни при чём: насиловали, и жрали, и убивали – но и любили, что-то уверенно толковали, спорили, развивались культурно… Бога же не было. Римма как-то молилась, так что молитвы стали вдруг вопль истошный. Бога всё не было.
Раз попала в столярню, где жил Зосима. Комната, – в рамах, тумбах, шкатулках, чашках, тарелках, – пахла приятно хвоей и лаком. На деревянном полу и стульях гостьи внимали. Видимый со спины монашек сказывал:
– Чип был маленький, но вмещал он много, и люди вписывались в него огулом. В чипе ведь легче. Ибо дышать в нём незачем, пища незачем, не страшны в нём ни боль, ни страх; значит жить можно вечно: только впишись в чип. Так ты сто лет жив, в чипе же – вечность. Мало-помалу чипы сменили Жизнь. Электронные превзошли живых, и с них брали пример. Все жаждали походить на чип, как он есть по структуре; то есть на алгебру. Мир пронзили носители, по каким текли дигитальные души. Браки случались, коль выясняли математически, что, мол, ряду душ надо слиться на время для сверх-познания. И в конце концов стал один Высший Разум, спутавший мир сетями. Всё ушло в цифры да в электронику, вся телесность Земли. Живые, – что уцелели меж проводов, плат, блоков, слотов, процессоров, – стали есть изоляцию, чтобы жить, ибо есть больше нечего…
Он, узрев Римму, вскинулся; вострый носик блеснул при лампочке. Но она унеслась. Чушь, глупость; сказка дурацкая!.. О, она не того ждала, не химер и не россказней!! Близнецы, две сестры, и прочие, Римма видела, рты раскрыли и слушали… А ещё Римма видела, что понравилась иноку, престарелому, хлипкому, с акварельными глазками, ей годящемуся в отцы, – которого обошла бы в солнечной прежней радостной жизни, даже побрезгала бы общаться, вздумай любить её щуплый седенький гном…
У женщин в их мастерской в вечерний час вспыхнул мебельный лак. Охранники с проходной и старец лили из красных огнетушителей, пока пена не скрыла пол с обгоревшею утварью. Изнемогший Зосима выбрел под тихий декабрьский снег на улицу и стоял следя, как игуменья воет, всех обвиняя, действуя в логике, что кто в малом слаб, тот в большом предаст.
– Акт диверсии! – выла матушка. – И когда?! Когда высших ждём с журналистом! Архиерей окажет честь! А увидит разруху?! Кто же поверит, что здесь радеют?! Гости в Клипаново, в Спасо-Троицкий монастырь отъедут в смехе над Воплино!.. И убытков тьма!!
Марфа выла. Щуплый монашек кашлял от дыма.
Их мастерская стала в столярне, где он заведовал и, орудуя топором, ли, шилом ли, отчего-то был грустен и не смотрел на инокинь и на послушниц, до поры там работавших. Когда Римма чертила сказ об Адаме в раю и Еве (ланью прикрытых ради приличия), он сказал с тоской:
– Вниз пупка что, не тело? Наоборот рисуй. Чтоб не мозг Евы в красках был, но что в ней от любви укрась. Мозг их ланью скрой, а вот то, что к любви, – показывай. Нашу в нас боговидность мозг под себя стесал. Я, как мозг возглашает всякие максимы в его серых извилинах, нами принятых за глас истины, маюсь: вдруг стану схожим с серостью мозга?! вдруг станем студнями, а потом нас багры слов в серый кисель сведут – и не будет морей, звёзд, вёсен, песен, любви в сердцах, а лишь серое вещество одно? Ей! одна, – вдруг всплакнул Зосима, – будет на свете серость от серого вещества кругом! Ведь не зря мозг дал правило: что к любви в теле ближе – то, мол, постыдное. Как Адам скушал яблоко – вмиг закон, что теперь что к любви относится, то не властно, греховно и презираемо, а отсюда таимо; стыд, мол, иметь его… А не стыд разум слушать, серого мозга серости верить?
Римма склонялась над рисованием, но монахини слушали.
– Людям, – крикнул Зосима, – стыдно представить, что Бог схож с тем порой, что к любви у нас?! Ну а как всё же сходствует? А как Бог вдруг не есть голова в плечах – этот высший их разум? Милые, вдруг мы были иным в раю? Вдруг мы были там Жизнь в цветах, и мы Жизнь эту предали, так что после восстал с неё властным фаллосом мозг в Адаме, прочее не могло быть райским из-за увечья и – стало Евой? Ева – вдруг рай-то?
Римма вскочила и из столярни прянула к зданию, где была её келья. Римма спешила, чёрная на морозном снегу… Назавтра с ней приключилась немощь, и Римма бредила наяву.
5. «НародиЯ»
Л. Барыгис начал кампанию, и предвыборный штаб старался. Рейтинг, однако, рос неторопко. Целя стать главным, он считал, что народ им любуется, дело гробят помощники. Впрочем, также народ срань.
В «мерсе», меж джипов с личной охраной, мчал он Волхонкой мимо рекламы. Ни на билбордах, ни на растяжках и ни на баннерах в его честь не виделось ни цветов, ни смеха, ни солнц, ни юности, коей он бы отечески потрафлял, ни ухарских кулаков рабочих, ни громких лозунгов «Любим Родину!», «Власть трудящимся!». Он явил Москве фас широкой и грушевидной, в мелких кудряшках светлых оттенков, физиономии с купидоньими губками. Он был слишком величествен, чтоб склонять предпочесть его. Быдлу просто дан знак, что Барыгис намерен быдлу потворствовать. Он, короче, решил – поэтому все должны его выбрать, чувствуя, что в стране бардак и они дерьмо оттого, что до этого власть была не у Льва Д. Барыгиса… Он стравил звучно газы, стёкшие к сфинктеру, и отметил, что у него так, если он с женщиной… вот как с этой монашкой, кою загнул тогда… Он нигде не стеснялся яростно пёргать, видя в том способ выразить взгляды на суррогатный, жалкий мирок людской. Ничего, он мнил, нет вокруг натурального; всё лишь воля Барыгиса. Он монашку хотел – означилась. Вздумал в главные – и страна взялась, дабы он в ней стал лидером. Ибо он их представил: эту монашку с этой страной. Всё морок, фата-моргана. Есть только он. Поэтому он, став главным, кончит с Россией, что лишь в мозгах его, дабы в них взялось лучшее, вроде США либо Франции… У ампирного клуба он молча вылез и с бодигардами, окружён толпой, зашагал через холл, ощерившись, что считалось улыбкой, и прибегая к харизме грузного тела, как у медведя. Думали, что при нём в государстве все будут крупные. Основательных быдло ужас как любит.
Присные партии, – ПДП то бишь, – ожидали на сцене в явном напряге, чтоб отгадать, что делать, по его мимике. От его самодурства люди сбежали бы, не удерживай их надежда сесть при чиновных важных постах, если он власть захапает. Ни один допустить не мог, что Барыгис уже решил их уволить и заменить другими, после и тех убрать.
– Я не лектор, – сказал он, остановившись. – Стол-ка нам с закусью.
И, когда это сделали, он сел чуть ли не с краю и продолжал с ленцой: – Тут мест двадцать; все пусть подсядут.
С грохотом стол был занят. Слышалось, как Барыгис пьёт из бутылки, шумно глотает.
– Вы, бля, решили, я править буду? – начал он, хмыкнув. – Я не Спиноза, чтобы народ учить. Нас учили, а толку?.. Мы с вами – жить начнём. Рента с нефти, во-первых. Стырил – в Сибирь едь, это второе. Хамы в полиции – стойка смирно, бля, у метро, честь каждому отдавать до смерти. Мать родила двух – на, мать, квартиру. Ты олигарх? – всё сдал в казну и пошёл с нуля; покажи, чем взял: воровством или делом? Вот как мы будем эту страну спасать. Довели её умники… Дальше нет пути: срыв, абзац, полный минус. Двинем в плюса, народ?
Посмеялись.
– Что вы мне ржёте? Я вам не клоун. Мы с вами жить должны, – вёл Барыгис, – я, ты, она… – махнул он в зал. – Чтобы суки нас делали? Мы не тронем их. Мы их на пошлём. Нам реальных в общак дай, а не обратно… Бля, президентство – это вещь русская? Нет, не русская. Я вот буду – «народ и я». Рядом будет любой из вас очерёдно. Он не получит чина и ордена, но когда он объявит: да! – так оно сразу будет. Умных мы на хер. Нам дай обычных. Власть была – против нас всегда. Но теперь будет наша власть против тех, кто против. В общем, народ и я – вот как будем звать высшего.
– Лёвина народия – на него пародия! – крикнули. – Ваше благородие, вы и есть Народия?
– Покажись мне, – скривившись, бросил Барыгис и, едва ёрник встал, добавил: – Ты будешь первый мой заместитель.
– Сладкую мелодию слышу от Народии! – не сдавался тот. – От такой Народии, жди, страна, бесплодия!
Зал заржал. Громче всех ржал Барыгис грушеподобной физиономией в мелких светлых кудряшках и похотливым ртом купидона.
По окончании он пошёл в рядах, пожимая ладони, и раздавал автографы, овевая всех гнилью, что от него порой исходила. Он дал гарантию, что, когда победит, при нём всегда будут СМИ; его президентство будет представлено как реалити-шоу; он хитрить не намерен, пусть следят и в сортире, но при условии, что и сам оператор, «бля», в унитазе. В «мерс» он взял «бабушку» – подвезти для пиара до магазина.
Позже, два дня спустя, острослова-поэта, что задирал его, подле МКАД нашли искалеченным.
Лев Барыгис был грузный, с детскими ручками, с головой зрелой груши в мелких кудряшках, также с губами, будто застывшими на презрительной фразе «бля, западло мне!» – что мнили имиджем оппозиции, хоть он чхал на всех без изъятия. Он «манал» всяких умников, благо был результатом ума в том плане, что этот азбучный обиходный ум выбрал целями: вожделение, деньги, власть. Он всех «манал», обнаружив, – пусть не мог выразить, – сокровенную тайну: ум жадно ищет общих суждений и принуждает к ним. Разумовский считал ничем всех в теории – для Барыгиса все ничто были фактом. Вор, он общак держал, тем и выбрался в верхние. Миллионов сто долларов, кроме крупных партийных сумм, он всегда имел. Он имел бы и больше, кабы не херево, когда он отдал деньги Квасу (Закваскину), заму, присному, дабы выкупить акции сепараторной фабрики в тульском Флавске, – Квас же свинтился, сгинул бесследно, так что, бля, не на ком зло сорвать. Ну, а злым он умел быть. Год назад он послал «дохнуть» сверстника, потому что в отрочестве, вспомнил, девочка из восьмого «в» предпочла того. Домик, портивший вид с окна, он спалить велел; задевавших – пинал; в прохожего ни с того ни с сего мог плюнуть. Он не убил всех только от лени. Впрочем, порой он любил людей, – если люди смеялись всем его шуткам и его слушались. Он был редкостной сволочью. На Москве он жил в Киевцах (в современных Хамовниках).