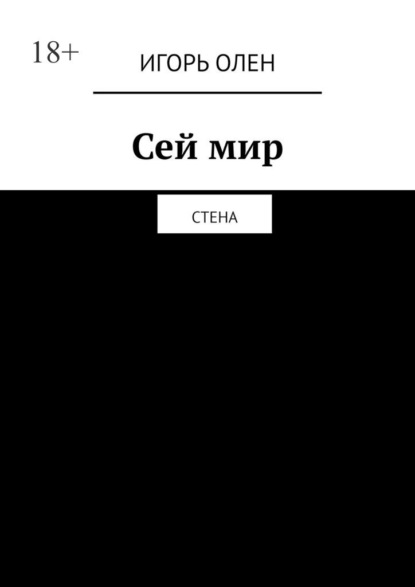По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сей мир. Стена
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сей мир. Стена
Игорь ОЛЕН
Романтив про первородный грех, основавший историю и покончивший с предысторией. О непадших и падших. Об аутистах и олигархах, разуме и законах, об интеллекте, женской обители, словобоге и Боге, столпниках, идиотах, ценностях мира, смерти и жизни, о христианстве и Андрогине, рае и истине и vaginе. Книга содержит нецензурную брань.
Сей мир
Стена
Игорь ОЛЕН
Отечество наше там, из чего мы пришли, – там отец наш.
Плотин
© Игорь ОЛЕН, 2021
ISBN 978-5-0053-6466-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1. Щепотьевская дура
Когда она родилась (в Союзе, в Москве, в роддоме, с муками матери, чтоб явиться в ноль-ноль дня прошедшего и в ноль-ноль настающего, как бы вроде вне времени), меж врачами имели быть реплики:
– Кто у нас? мальчик? девочка?
– Кто? Ни то и ни сё. Так, данность…
«Даной» оно было названо.
Просто-напросто Дана.
Данное для чего-то как-то кому-то – но прежде вытащенное из лона и унесённое для анализов, где осталось в кувезе, в капсуле для младенцев. Матери был намёк избавиться. Мать смотрела испуганно, спрашивая, в чём дело. Ей объяснили: «Неадекватность». Мать стала вскармливать «данность» грудью, но, пока это длилось, должное, говорили ей женщины, быть блаженно-приятным, – так вовсе не было. Отрешённая, она пальцем сдержанно плод неволила, чтоб не тыркался… А потом она вовсе плод не кормила: груди иссякли и – расхотелось вдруг.
Вскоре мать с Даной выписали. Унылым был путь в автобусе, проезжающем хмурый зимний пейзаж. На Ломаной, подле Яузы, улице, в доме, с виду из старых, из довоенных, нештукатуренных, на последнем из этажей (на пятом), длинный мужчина молча встречал их. И Дане виделся с сих пор сумрачный потолок в молчании с дребезжанием ложечки, подававшей смесь; надо было дотягиваться к еде, – мать на руки не брала. Порой раздавались злые фальцеты, Дану гнетущие, а кормили её при этом и одевали спешно, рывками, либо влекли на балкон в коляску, то есть «гулять».
В сей дёрганной и туманной среде со временем Дане стало пять лет; ходить научилась; и ей открылись вроде бы краски: жёлтые, красные, изумрудные… Дана вывалила их в кучу, чтобы рассматривать. Наскочив, мать сгребла их с криком, что, дескать, «мерзость позволила себе быть, а быть ей нельзя!» И Дане, как ей до этого есть не нравилось, ведь еда часто дёргалась и бывала холодной, так разонравилось уловлять в пронзительных воплях смысл. В молчании и туманности было лучше – в мире предметов, красок и звуков, смыслов тем паче, было ей хуже.
Как-то и в чём-то Дана нашкодила. Долго длинный мужчина нудно шумел на мать. А потом он пропал и больше не появлялся.
Год спустя Дана стала вникать в слова (кои якобы «жизнь» для «твари» и, по Кириллу [александрийский архиепископ и богослов, век пятый], «через свет коих тварность из тьмы пошла»). Но всегда она видела странно и по-другому, слышала не в словах отнюдь, но в глубинах души своей.
Впрочем, что слова? Принимать через смыслы и в оболочке слов – значит истинно? Плоше, вдуматься, перцептирует вошь, кальмар, инфузория? Плоше, вдуматься, перцептирует гниль, червяк или «тьма» того же Кирилла в, дескать, безмозглом небытии своём? Вдруг во «тьме» этой истина? Ведь «не быть» не равно «не жить». Быть – одно. Жить – иное. Вдруг «тьма» живёт-таки, как и «свет» живёт? Вдруг последняя жизнь, бессмыслая, из простейших, воспринимает, чувствует тоже: плохо по-нашему, хорошо по себе? Вдруг и Дана вмещала мир фантастическим, непостижным нам алогическим «тёмным» образом, без посредства слов, вне понятий и смыслов, не понимая, что, скажем, краски трогать нельзя? Зачем нельзя? отчего нельзя, если каждое из «нельзя» стесняет мало-помалу и если смерть есть итог стеснений? Так Дана чуяла, но в словах не могла сказать.
92-ой год не был похож на прежние ни шумами, ни видами. Мать явилась раз с женщиной, назвала её «тётя» и предназначила с тётей жить, сказав:
– Я иду в монастырь, в затворницы.
Тётя Дану схватила.
– Ай, сиротинка!.. Риммочка, краля, я приглижу за ней… На кого покидаешь нас?! – Так сказав, тётя села «чайку попить».
Скоро мать собралась в дорогу, в чёрном платке, с баулом… В поезде мать смотрела в окно, слезила и объяснялась:
– …жизнь мне испортила…
– …а я график, лауреат притом, у меня неприязнь к уродству… Да, эстетический ступор, если хотите…
– …мужа любила я… дать ребёнка хотела… и зачала от друга. Это не грех ведь?..
– …Бог наказал… – частила мать, будто не было Даны, хоть та рвалась близ тёти в крепком объятии потной жирной руки, мешающей встать.
– …она – это зло! нечистая!.. Не боялась бы Бога… Я православная… Да она ведь не плакала, не смеялась ни разу! Врач сказал, заторможена… Но ведь плакать должна, должна! Идиоты ведь плачут?.. Ей всё ничто, нет нервов… И у неё нет тени.
– Ай, ты, намучилась! – выла тётя. – Краля ты наша! Чисто святая!
Дана не чувствовала, что хочет мать, но отметила, что родной силуэт стирается, обрывая волшебные, и?скристые меж них узы.
Был пеший путь в полях, что, продавлены речкой, за косогорами подбирались к леску в снегах. Тропка плавилась по сугробам к маковкам церкви, видным над крышами серебристого колера… У ворот, отворённых монашкой, мать попрощалась с очень плаксиво воющей тётей.
В тот же день, поздно, были опять в Москве.
Тётя топала улицей с ошарашенным людством ельцинской эры, ищущим шансы к обогащению; подле дома в продторге выбила колбасу, хлеб, овощи, пререкаясь с кассиршей, что, раз у них цены «прут наверх кажный день гляди!», она тоже, «со вторника», на своей ткацкой фабрике так «накрутит что сдохните!» Тётя грызлась с кассиршей, вызвавшей «Ельцына, и енфляцию, и разор в стране», битый час, витийствуя, что вчера вздула цены «на пододьяльники» на их фабрике, а сегодня, коль «сыр в цене в магазине», на-те вам «втридорога бюсхалтиры». Дана видела схватку их, точно в мареве.
Дома тётя варила ей «Доширак», твердя, что «не доброй к хорошей к ней, к дуре», тёте – только лапша в воде, потому как «критинок учат». Дане рацеи были никак; ни зла, ни добра, ни слов, ни вещей, ни смыслов Дана не ведала.
– Идиотка какая! – тётя однажды Дане сказала и, оголив её, с неприязнью осматривала, вертя. – Ишь, диво-то!.. нет ни письки, ни сиськи… Это чурбак почти. Хорошо, руки-ноги есть.
Но прилюдно стенала по «сиротинке», кою-де «холит-ростит-лелеет», бросив единственного «сынка» за «тридивять в Омскай области». С сыном тётя созванивалась: «тирпи, сынок!», так как «чёрт бы подрал их, энтих московских! сёдни навроде им монастырь давай, а как встрянит вернуться?» Тётя подчёркивала: дом «в центре» и она «вписана, это все перспиктивы есть; надо вытирпеть».
Так что лишь через год-другой, после трёх ездок к «тр?днице», не желающей видеть «чудище», тётя вывезла сына с Матово, дальней станции, где бандитствовали и пили, проституировали и мёрли. Рыхлый, дебелый, малоподвижный и чем-то кислым пахнущий Гарик был лет за тридцать. Он, обожая тёмное пиво и теле-спорт, с утра и до вечера ёрзал кресле, локти провесив за подлокотники, с батареей бутылок, и не сводил глаз с бокса, футбола, тенниса, гонок, регби, хоккея; к вечеру он сопел, зло пукал, чтобы, поев котлет, отвалиться в кровать. Впоследствии он устроился барменом в грязном баре, где, под немолчный грохот шансона смешивая «бухло», смотрел опять тот же спорт из плоского телевизора, что свисал с потолка в углу. Он поигрывал у букмекеров и у матери брал в долг деньги, так как доходы быстро растрачивал, а работать, ловчить, мошенничать либо делать свой бизнес он не умел, бездарный и апатичный.
Дана жила на кухне, в стае дворняжек, тётей искомых и приводимых, пестуемых до времени, а потом презентуемых, дескать, в «добрые руки». «Я не могу тирпеть, животина чтоб мучилась», – уверялось с плаксивостью. Тётя Дане вручала бланки с рекламкой; в них говорилось: «очень приличная сирдобольная женщина» завела бы «собачку», только «бесплатно». Дана расклеивала рекламки; им приводили псов. Также Дана искала псов на свой страх и риск лично и добиралась чуть не до Щёлково; всё живое само к ней шло. Кошки, голуби, птицы, даже деревья, грязная Яуза и немытая городская земля с постройками – Дане виделись ярче, радостней, чем людское, смятенное, беспокойное, и их связи были красивее, представлялись бурливым красочным спектром.
Как появились псы, тётя стала без устали печь мясистые пирожки и зразы; кухню заполнили печи, тостеры, духовые шкафы и плиты, выпечка множилась. Но от запахов кухни псы убегали прятаться в комнаты. Дана их выводила в сквер на прогулки после занятий в десятилетке, где её дёргали и мытарили шутками, типа: «Данка, ты кто у нас: баба? лошадь? мужик?» – и ставили чаще двойки. Ибо нюансы психики Даны не позволяли счесть её дурой явственной; в повседневной среде, итожил врач, «аутизм у ребёнка» может убавиться; а среда эта – школа, школа обычная, в кою тётя захаживала в дирекцию кочевряжиться жертвенностью подвижничества.
– Ночей не сплю! Про неё биспокоюсь! Встану, бывало, – как, не недужит ли? Молочко, фруктик, мясце… В наше-то времечко?
Время страшное, соглашались, и, в целом, «девочка», выражаясь корректно, «сносная, конгруэнтная». В джинсах, в свитере, Дана впрямь была ничего, с диковинной, правда, мимикой: белокожа, пахнет приятно, как ванилин, и зыбкая; но причуд анатомии не видать в одежде. В общем, «мутантке» надо мирволить. Двойки ей исправляли, общее было «три».
Снедь (выпечку тёти) Дана совала в сумки-баулы и развозила после уроков либо в каникулы. Гарик вскоре уволился из подвального бара; стало ненужно, ибо их бизнес разукрупнился: наняли стряпок, живших поблизости, поставляли им мясо, жир и муку с приправами, а товар забирали и продавали оптом в киоски. Оба подсчитывали рубли. На кухне вис запах псины, ибо собак нужно больше, чуть не десятки, дабы «спасать» их и «подрабатывать»; взявший пса «за бесплатно», тётя твердила, должен был «чуточки» приплатить в знак искренности намерений, ведь тогда пёс – что деньги, а их не выкинешь просто так. И впрямь, задуматься…
Был июль с суетой у банков, фондов, товариществ и базаров. Сброд вознамерился богатеть, подстёгнутый трёпом властных верхов, корыстных и беспринципных, нагло госсобственность воровавших. Гарик томился в кожаном кресле, квёлый и потный, и только пиво пил, а когда пришла Дана, что развозила снедь, он, позвав её, расстегнул ширинку.
Кончилось из-за колли, рыжей, весёлой, с белой подпалиной на груди и в белых на лапах гетрах, с гривой из рыжей, с изжелтью, шерсти. Им привели её по развешенным объявлениям, что «хорошая сирдобольная женщина завела бы собачку». Дана с ней проспала ночь, вызвав досаду многих других псов, очень завистливых, а когда утром тётя, вся в бигудях, послала её на почту, Дана шагала с радостным чувством, что она – колли, что они будут как бы подруги и не расстанутся. Возвратившейся, тётя сунула ей компот; собак же и колли не было: мол, забрали. Тут растрезвонился телефон в прихожей; Гарик побрёл из ванной и не закрыл дверь; Дана шла мимо и увидала кипу ободранных свежих туш, поленницу лап с когтями, а на полу – кладь шкур с венчающей шкурой колли. Вспыхнули спектры, и Дана бросилась из окна, с последнего этажа, вниз.
Осенью, в октябре уже, подвезли её из больницы в «скорой» до дома и укатили. Ибо слезливая сердобольная тётя, что навещала её, исчезла, выяснив, что убогая перестала вдруг говорить и смотрит на всё без смысла; плюс по РФ брели 90-е, все плевали на всех; до Даны всем было по фигу, – «фиолетово», выражались. Дана взошла к квартире, но повстречала там незнакомцев, грохот и пыль столбом. Скарб отсутствовал, кроме сумочки на полу с помадой, солнечными очками, керлером и письмом.
– Эй, что тебе? – крикнул кто-то.
Игорь ОЛЕН
Романтив про первородный грех, основавший историю и покончивший с предысторией. О непадших и падших. Об аутистах и олигархах, разуме и законах, об интеллекте, женской обители, словобоге и Боге, столпниках, идиотах, ценностях мира, смерти и жизни, о христианстве и Андрогине, рае и истине и vaginе. Книга содержит нецензурную брань.
Сей мир
Стена
Игорь ОЛЕН
Отечество наше там, из чего мы пришли, – там отец наш.
Плотин
© Игорь ОЛЕН, 2021
ISBN 978-5-0053-6466-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1. Щепотьевская дура
Когда она родилась (в Союзе, в Москве, в роддоме, с муками матери, чтоб явиться в ноль-ноль дня прошедшего и в ноль-ноль настающего, как бы вроде вне времени), меж врачами имели быть реплики:
– Кто у нас? мальчик? девочка?
– Кто? Ни то и ни сё. Так, данность…
«Даной» оно было названо.
Просто-напросто Дана.
Данное для чего-то как-то кому-то – но прежде вытащенное из лона и унесённое для анализов, где осталось в кувезе, в капсуле для младенцев. Матери был намёк избавиться. Мать смотрела испуганно, спрашивая, в чём дело. Ей объяснили: «Неадекватность». Мать стала вскармливать «данность» грудью, но, пока это длилось, должное, говорили ей женщины, быть блаженно-приятным, – так вовсе не было. Отрешённая, она пальцем сдержанно плод неволила, чтоб не тыркался… А потом она вовсе плод не кормила: груди иссякли и – расхотелось вдруг.
Вскоре мать с Даной выписали. Унылым был путь в автобусе, проезжающем хмурый зимний пейзаж. На Ломаной, подле Яузы, улице, в доме, с виду из старых, из довоенных, нештукатуренных, на последнем из этажей (на пятом), длинный мужчина молча встречал их. И Дане виделся с сих пор сумрачный потолок в молчании с дребезжанием ложечки, подававшей смесь; надо было дотягиваться к еде, – мать на руки не брала. Порой раздавались злые фальцеты, Дану гнетущие, а кормили её при этом и одевали спешно, рывками, либо влекли на балкон в коляску, то есть «гулять».
В сей дёрганной и туманной среде со временем Дане стало пять лет; ходить научилась; и ей открылись вроде бы краски: жёлтые, красные, изумрудные… Дана вывалила их в кучу, чтобы рассматривать. Наскочив, мать сгребла их с криком, что, дескать, «мерзость позволила себе быть, а быть ей нельзя!» И Дане, как ей до этого есть не нравилось, ведь еда часто дёргалась и бывала холодной, так разонравилось уловлять в пронзительных воплях смысл. В молчании и туманности было лучше – в мире предметов, красок и звуков, смыслов тем паче, было ей хуже.
Как-то и в чём-то Дана нашкодила. Долго длинный мужчина нудно шумел на мать. А потом он пропал и больше не появлялся.
Год спустя Дана стала вникать в слова (кои якобы «жизнь» для «твари» и, по Кириллу [александрийский архиепископ и богослов, век пятый], «через свет коих тварность из тьмы пошла»). Но всегда она видела странно и по-другому, слышала не в словах отнюдь, но в глубинах души своей.
Впрочем, что слова? Принимать через смыслы и в оболочке слов – значит истинно? Плоше, вдуматься, перцептирует вошь, кальмар, инфузория? Плоше, вдуматься, перцептирует гниль, червяк или «тьма» того же Кирилла в, дескать, безмозглом небытии своём? Вдруг во «тьме» этой истина? Ведь «не быть» не равно «не жить». Быть – одно. Жить – иное. Вдруг «тьма» живёт-таки, как и «свет» живёт? Вдруг последняя жизнь, бессмыслая, из простейших, воспринимает, чувствует тоже: плохо по-нашему, хорошо по себе? Вдруг и Дана вмещала мир фантастическим, непостижным нам алогическим «тёмным» образом, без посредства слов, вне понятий и смыслов, не понимая, что, скажем, краски трогать нельзя? Зачем нельзя? отчего нельзя, если каждое из «нельзя» стесняет мало-помалу и если смерть есть итог стеснений? Так Дана чуяла, но в словах не могла сказать.
92-ой год не был похож на прежние ни шумами, ни видами. Мать явилась раз с женщиной, назвала её «тётя» и предназначила с тётей жить, сказав:
– Я иду в монастырь, в затворницы.
Тётя Дану схватила.
– Ай, сиротинка!.. Риммочка, краля, я приглижу за ней… На кого покидаешь нас?! – Так сказав, тётя села «чайку попить».
Скоро мать собралась в дорогу, в чёрном платке, с баулом… В поезде мать смотрела в окно, слезила и объяснялась:
– …жизнь мне испортила…
– …а я график, лауреат притом, у меня неприязнь к уродству… Да, эстетический ступор, если хотите…
– …мужа любила я… дать ребёнка хотела… и зачала от друга. Это не грех ведь?..
– …Бог наказал… – частила мать, будто не было Даны, хоть та рвалась близ тёти в крепком объятии потной жирной руки, мешающей встать.
– …она – это зло! нечистая!.. Не боялась бы Бога… Я православная… Да она ведь не плакала, не смеялась ни разу! Врач сказал, заторможена… Но ведь плакать должна, должна! Идиоты ведь плачут?.. Ей всё ничто, нет нервов… И у неё нет тени.
– Ай, ты, намучилась! – выла тётя. – Краля ты наша! Чисто святая!
Дана не чувствовала, что хочет мать, но отметила, что родной силуэт стирается, обрывая волшебные, и?скристые меж них узы.
Был пеший путь в полях, что, продавлены речкой, за косогорами подбирались к леску в снегах. Тропка плавилась по сугробам к маковкам церкви, видным над крышами серебристого колера… У ворот, отворённых монашкой, мать попрощалась с очень плаксиво воющей тётей.
В тот же день, поздно, были опять в Москве.
Тётя топала улицей с ошарашенным людством ельцинской эры, ищущим шансы к обогащению; подле дома в продторге выбила колбасу, хлеб, овощи, пререкаясь с кассиршей, что, раз у них цены «прут наверх кажный день гляди!», она тоже, «со вторника», на своей ткацкой фабрике так «накрутит что сдохните!» Тётя грызлась с кассиршей, вызвавшей «Ельцына, и енфляцию, и разор в стране», битый час, витийствуя, что вчера вздула цены «на пододьяльники» на их фабрике, а сегодня, коль «сыр в цене в магазине», на-те вам «втридорога бюсхалтиры». Дана видела схватку их, точно в мареве.
Дома тётя варила ей «Доширак», твердя, что «не доброй к хорошей к ней, к дуре», тёте – только лапша в воде, потому как «критинок учат». Дане рацеи были никак; ни зла, ни добра, ни слов, ни вещей, ни смыслов Дана не ведала.
– Идиотка какая! – тётя однажды Дане сказала и, оголив её, с неприязнью осматривала, вертя. – Ишь, диво-то!.. нет ни письки, ни сиськи… Это чурбак почти. Хорошо, руки-ноги есть.
Но прилюдно стенала по «сиротинке», кою-де «холит-ростит-лелеет», бросив единственного «сынка» за «тридивять в Омскай области». С сыном тётя созванивалась: «тирпи, сынок!», так как «чёрт бы подрал их, энтих московских! сёдни навроде им монастырь давай, а как встрянит вернуться?» Тётя подчёркивала: дом «в центре» и она «вписана, это все перспиктивы есть; надо вытирпеть».
Так что лишь через год-другой, после трёх ездок к «тр?днице», не желающей видеть «чудище», тётя вывезла сына с Матово, дальней станции, где бандитствовали и пили, проституировали и мёрли. Рыхлый, дебелый, малоподвижный и чем-то кислым пахнущий Гарик был лет за тридцать. Он, обожая тёмное пиво и теле-спорт, с утра и до вечера ёрзал кресле, локти провесив за подлокотники, с батареей бутылок, и не сводил глаз с бокса, футбола, тенниса, гонок, регби, хоккея; к вечеру он сопел, зло пукал, чтобы, поев котлет, отвалиться в кровать. Впоследствии он устроился барменом в грязном баре, где, под немолчный грохот шансона смешивая «бухло», смотрел опять тот же спорт из плоского телевизора, что свисал с потолка в углу. Он поигрывал у букмекеров и у матери брал в долг деньги, так как доходы быстро растрачивал, а работать, ловчить, мошенничать либо делать свой бизнес он не умел, бездарный и апатичный.
Дана жила на кухне, в стае дворняжек, тётей искомых и приводимых, пестуемых до времени, а потом презентуемых, дескать, в «добрые руки». «Я не могу тирпеть, животина чтоб мучилась», – уверялось с плаксивостью. Тётя Дане вручала бланки с рекламкой; в них говорилось: «очень приличная сирдобольная женщина» завела бы «собачку», только «бесплатно». Дана расклеивала рекламки; им приводили псов. Также Дана искала псов на свой страх и риск лично и добиралась чуть не до Щёлково; всё живое само к ней шло. Кошки, голуби, птицы, даже деревья, грязная Яуза и немытая городская земля с постройками – Дане виделись ярче, радостней, чем людское, смятенное, беспокойное, и их связи были красивее, представлялись бурливым красочным спектром.
Как появились псы, тётя стала без устали печь мясистые пирожки и зразы; кухню заполнили печи, тостеры, духовые шкафы и плиты, выпечка множилась. Но от запахов кухни псы убегали прятаться в комнаты. Дана их выводила в сквер на прогулки после занятий в десятилетке, где её дёргали и мытарили шутками, типа: «Данка, ты кто у нас: баба? лошадь? мужик?» – и ставили чаще двойки. Ибо нюансы психики Даны не позволяли счесть её дурой явственной; в повседневной среде, итожил врач, «аутизм у ребёнка» может убавиться; а среда эта – школа, школа обычная, в кою тётя захаживала в дирекцию кочевряжиться жертвенностью подвижничества.
– Ночей не сплю! Про неё биспокоюсь! Встану, бывало, – как, не недужит ли? Молочко, фруктик, мясце… В наше-то времечко?
Время страшное, соглашались, и, в целом, «девочка», выражаясь корректно, «сносная, конгруэнтная». В джинсах, в свитере, Дана впрямь была ничего, с диковинной, правда, мимикой: белокожа, пахнет приятно, как ванилин, и зыбкая; но причуд анатомии не видать в одежде. В общем, «мутантке» надо мирволить. Двойки ей исправляли, общее было «три».
Снедь (выпечку тёти) Дана совала в сумки-баулы и развозила после уроков либо в каникулы. Гарик вскоре уволился из подвального бара; стало ненужно, ибо их бизнес разукрупнился: наняли стряпок, живших поблизости, поставляли им мясо, жир и муку с приправами, а товар забирали и продавали оптом в киоски. Оба подсчитывали рубли. На кухне вис запах псины, ибо собак нужно больше, чуть не десятки, дабы «спасать» их и «подрабатывать»; взявший пса «за бесплатно», тётя твердила, должен был «чуточки» приплатить в знак искренности намерений, ведь тогда пёс – что деньги, а их не выкинешь просто так. И впрямь, задуматься…
Был июль с суетой у банков, фондов, товариществ и базаров. Сброд вознамерился богатеть, подстёгнутый трёпом властных верхов, корыстных и беспринципных, нагло госсобственность воровавших. Гарик томился в кожаном кресле, квёлый и потный, и только пиво пил, а когда пришла Дана, что развозила снедь, он, позвав её, расстегнул ширинку.
Кончилось из-за колли, рыжей, весёлой, с белой подпалиной на груди и в белых на лапах гетрах, с гривой из рыжей, с изжелтью, шерсти. Им привели её по развешенным объявлениям, что «хорошая сирдобольная женщина завела бы собачку». Дана с ней проспала ночь, вызвав досаду многих других псов, очень завистливых, а когда утром тётя, вся в бигудях, послала её на почту, Дана шагала с радостным чувством, что она – колли, что они будут как бы подруги и не расстанутся. Возвратившейся, тётя сунула ей компот; собак же и колли не было: мол, забрали. Тут растрезвонился телефон в прихожей; Гарик побрёл из ванной и не закрыл дверь; Дана шла мимо и увидала кипу ободранных свежих туш, поленницу лап с когтями, а на полу – кладь шкур с венчающей шкурой колли. Вспыхнули спектры, и Дана бросилась из окна, с последнего этажа, вниз.
Осенью, в октябре уже, подвезли её из больницы в «скорой» до дома и укатили. Ибо слезливая сердобольная тётя, что навещала её, исчезла, выяснив, что убогая перестала вдруг говорить и смотрит на всё без смысла; плюс по РФ брели 90-е, все плевали на всех; до Даны всем было по фигу, – «фиолетово», выражались. Дана взошла к квартире, но повстречала там незнакомцев, грохот и пыль столбом. Скарб отсутствовал, кроме сумочки на полу с помадой, солнечными очками, керлером и письмом.
– Эй, что тебе? – крикнул кто-то.