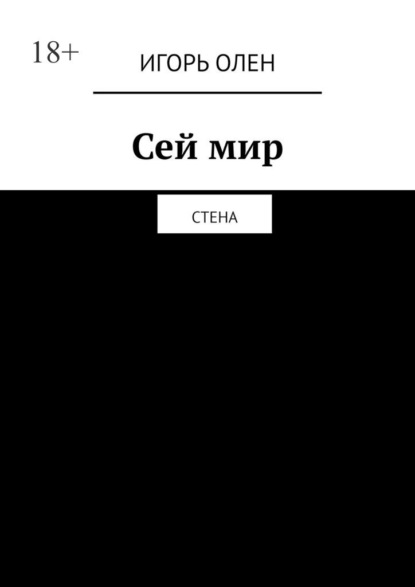По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сей мир. Стена
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бог есть логика, чистый разум, мнил Разумовский, рациональность, власть интеллекта. Он, как Цельс, лютовал, встретив тех, в коих вера не сводится к знанию, но враждует с ним, и мнил чудо палачеством и насилием над порядком вещей, над мозгом, автором космоса, для которого чудо точно плевок в глаза, в зоркость oculi mentis. Вот на таких людей есть оружие – диалектика, к коей нужно прибегнуть, дабы весь мир, склонясь, повторял твою истину как единственную, нудящую. Своевольным натурам, дерзким характерам, что опасны для разума, он готов был внушать закон: ты не веришь в смерть? – удостоишься казни, дабы уверовал; дважды два не четыре? – в кнут маловера, пусть исчисляет плети ударов; хаешь порядок? – в дом сумасшедших, дабы проникся жаждой порядка. Цель всех суждений, как и поступков, – в мысленной службе НЕОБХОДИМОСТИ, нет иных богов; и пока не стряхнуть с себя романтический вздор, не войти вполне в сферу чистых понятий – истин не сыщешь, не установишь. Если есть «Яхве», «Сущее», «Нус», «Идея», «Бог из машины», «Будда», «Христос» etc. – значит нет разума, что немыслимо. Есть лишь разум и сущность – НЕОБХОДИМОСТЬ, матерь законов. Надо любить ЕЁ. Человек – для законов, но не для жизни. Ищущий знания, разум чужд всякой жизни как произвольности; жизнь сведётся им в бытие по правилам. Люди станут не тело, не биомасса – но комплекс цифр. Зачем жизнь? И от бессмертия польза та лишь, если задуматься, что смерть портит oculi mentis – гидов по ясным, точным критериям, ведь умершему не внушить впредь должное. Мёртвый волен, самоуправен, как бы преступен… Впрочем, бессмертие – не для плоти, только для разума.
Бога нет, люди смертны, воля подсудна. Разум не смотрит, есть или нет душа: ему нужно, чтоб его слушали и ему не противились. Оттого Разумовский был, кстати, девственник и носил только мытые в спирте вещи. Гадится, оскверняется жизнь, не разум, лучшая наша часть, pars melior nostra. Вечные истины – не для жизни, что загнивает, и не для бога, мёртвого на кресте своём. Разумовский не знал (намеренно) «неклассической физики», посягавшей на догмы, модной с недавних пор, но per se исходящей из «дважды два четыре». Так, не иначе, – или нет разума, созидателя принципов. Допустить, что есть бог, сочиняющий истины, – значит мозг убить. Произвола не может быть; в этом случае стал бы «бог из машины», кто бы крушил закон, утверждающий: то, что есть, – есть законно, необходимо, а не по прихоти. Всё должно быть – разумно; бедствуют там лишь, где мало разума, в том остатке стихий, что клеймил он как «жизнь» и с чем с детства боролся. Бескомпромиссный, он отрицал жизнь. Разум обязан был жизнь убить. Поэтому в бойнях уличных кошек силами ДЭЗов либо догхантеров Разумовский усматривал триумф разума, лишний раз жизнь стеснявшего. Жизнь – не стоила. Разумовский боролся с ней. Если всё-таки отступал – не плакал. Да, не смеяться, сходно не плакать, но – понимать! Не плакал, только кривился, зная железно: истина н?дит и убеждает. Неубеждающее неистинно. Быть в тепле убеждает? – значит, печь истинна. Стену разве пробьёшь лбом? – истинен сопромат. Смерть явна? – значит смерть истинна, не иначе. НЕОБХОДИМОСТЬ, если ты раб ей, радует. В чудеса он не верил. Он избегал «вдруг». Звался он «Кантемир» в честь Канта. Жизнь он не чувствовал, предпочтя чувствам – мыслить. НЕОБХОДИМОСТЬ, коя упряма и беспощадна, – вот что есть истина. Бог Иакова, Авраама, Христа? Чушь. Разум – вот бог реальный! Истинно – что для всех, что признанно, что внедрилось без спроса даже в ум бога, если тот был бы. В вере лишь дерзости: мол, хочу и лбом сталь пробью. Чудеса отрицались им; бытие без остатка виделось в разуме, тайн не нужно. Люди уходят, принципы – вечны. Разве они для нас? Нет, но мы для них. Пропади homo sapiens – математика будет. Люди и боги – все склонят головы под чугунностью «дважды два четыре» (тщетно «подпольный» псих Достоевского фыркает), но не будет вовеки, что дважды два даст тридцать. Истина гнула и Парменида, и государства, знал Разумовский. Так, не иначе. НЕОБХОДИМОСТЬ в сём мире правит, и лишь смирение перед ней – свобода; смирным даёт она. Рок согласных с ним водит, дерзких рок тащит. Набожным он советовал иллюстрировать веру прыганьем с крыши. Если потребна публике церковь – пусть это будет Храмина Разума, где священник Сократ. При всём при том, Разумовский уверен был: философия не должна творить без достаточной базы, Что философия? – калька, образ, прислуга НЕОБХОДИМОСТИ, плюс рентген её и оглядка, пристальная, покорная.
Он, живя в категориях, в коих мыслил, требовал, – от себя самого, естественно, – чтоб в любом его слове, жесте и действии утверждалось: жизнь исчислима, как математика. Он из частной конкретики ладил стать отвлечённостью, парадигмой всеобщности, избывал «патологию», точно Кант, поставлением перед самостью виселиц. Он хотел и себя слить в принцип, став отвлечённым био-понятием. Люди – вздор; сущность – в Разуме. Он писал «Обобщающую бионику» эры киборгов, электронных людей, компьютеров. Род людской исчерпался и прекращается, мнил он искренне, понимая инертную, пропит?ю Россию ярким примером. Женщину тоже мнил он ничтожным – тем, чья роль кончилась. Если он трактовал её, то отнюдь не как особь и не как пол тем более, но как просто органику, днесь почти что ненужную. Времена грядут переломные! Разумовский стремился к ним, не жалея себя ни прочих в этой ползущей в хаос вселенной, ведь на иное жизнь не способна. Он изводил жизнь в разум, мысля логично, что, если разумом всё пошло быть, им и венчается. Он тропил тропы Разуму. Он искал неизменный и идеальный ordo-connexio многих rerum[3 - Связь-порядок вещей (лат.).], невыносимый собственно жизни, как она есть, но – истинный, где случайность с капризом (и даже бог) бессильны, где правит тождество вещи – мысли. Он, воин разума, верил в благо порядка в той страшной мере, что проклял чувства. Стать частью строя – вот в чём задача. Коль мир порочен, то от незнаний. Цель – мир выстраивать математикой. Цель – забыв про бессмертие «душ» и прочее, обетонить всё алгеброй, дабы приняли, что такой-то – тридцать второй, такая-то – двойка с третью, то – сто девятое, а вон то – миллионное. Он сводил жизнь к формуле; одолев её в логике, он хотел жизнь избыть. Поэтому, что б ни делал он и куда б он ни ехал, мыслил разумно, целенаправленно.
Кусковатый асфальт тёк вниз, к селу, предварённому длинными, ряд за рядом, жилблоками, что продолжились древними, порознь, избами по-над поймой; сразу за ней, в холмах, был приземистый, эры Сталина, клуб; вразброс него – избы красного кирпича и церковь синего цвета. К западу, в трёх-пяти верстах, пойму метил другой храм, ярый от золота. На восток, вдали, у означенной поймы, виделись два церковных шатра с крестами. Сей преизбыток клерикализма был ненормален, но Разумовский, занятый мыслями, факт едва лишь отметил феноменальной пристальной памятью и свернул, чтоб, промчав мимо остовов от колхозных ферм, мимо нескольких изб в сирени, выехать к речке. Там он спросил у типов, рыболовящих с кружками пива, что, мол, за место.
– Эта… Мансарово… На сожи?г? Едь вправо; будет сожи?г. – И старший из рыбаков зевнул. – У Лохны. Так, малый, речку звать. Всё акей, прикинь. Речка Лохна, ехай направо, будет сожи?г.
– Есть дело, – вёл Разумовский. – Кто вы, представьтесь.
– Эта… Толян и Колян мы, – шатко встал старший, бросивши удочку, и, достав покурить из брючины, вдруг прикинулся деловым, нахмуренным, хоть икал с перепоя, пах перегаром и был в помятой рваной футболке.
Младший вдруг тоже встал, бросив кружку. – Мы эта… братья с ним. А вы кто?
Гость начал: – Надо поставить эксперимент. Смысл в том, что для жизни надобны деньги. Где их вам взять, Толян?
Тот курил и кивал, потупясь.
– Ваш бизнес плох, в руинах. Вон, вижу остовы: ведь от ферм?
– Разграбили. Тут чеченов тьма. Их Ревазов тут… Он, братан…
– Шовинизм, – прервал Разумовский. – Так что о главном. Есть здесь красивая панорама? Место получше?
– Есть.
– Залезайте, – кратко велел он.
Молча Толян/Колян влезли в джип. Отправились по просёлку… Минули две избы, овраги, чахлую пустошь… Выбрались на бурьянистый склон под солнцем, что был над речкой, где Разумовский, сняв пиджак и оставшись при брюках ниже рубашки, строго продолжил:
– Жду вас здесь с косами. Если скосите пять-шесть соток, дам двадцать долларов. Деньги – труд. Мы её очищать должны, нашу родину. Возражения?
– Эта… вытопчут. На сожи?г придут…
– Я сказал, – бросил гость. – Решайтесь. И, если выкос, символ порядка, здесь будет впредь с сих пор, дам вам доллары, тысяч пять. Согласны?
Он был серьёзен, строг и при галстуке, в серой с искрой рубашке от J. Armani. Он внушал пиетет.
– Слышь, скока рублей, те долары-то твои?
– Изрядно, тысяч под двести.
– Бле, завсегда, акей!
По одной из колей в бурьяне, сплюснутом джипом, братья ушли тотчас, обсуждая событие деловыми вскриками.
Москвичи оказались на косогоре, вроде над речкой, им пусть невидимой, но журчащей чуть ниже. Их берег пуст был и шёл отлогостью под высокими травами, изнурёнными солнцем. Пахло цветеньем; небо сверкало; пчёлы жужжали; воздух качался, пьяный от зноя; в мареве вправо мнилось селение и бредущая сквозь бурьяны к ним голова. Напротив, левобережьем, метрах в трёхстах, над поймой и на яру, над зарослями акации, были в фас три избы из древних: левая – красного кирпича и с каменными сенями; средняя – длинная, в штукатурке; правая, низкая, при сарае, каменная, опускалась в разлог, за коим, но на другом яру, отмечалось селение. Москвичи пили квас в бутылках, и Разумовский в этих трёх избах левобережья словно угадывал кадр фильма, то ли какую-то фотографию из докучных, назойливых. Впрочем, мозг забивать излишне, постановил он. Вскоре задумавшись над «этическим» Фихте, он не заметил, как оба брата, вновь появившись, косят от джипа косами вниз, укладывая в ряд травы, часто оттачивая два лезвия, ибо зной, затвердевшие стебли и муравьиные кучи быстро тупили их. Он вернулся в реальность, как только потный мрачный Толян сказал, чтоб они «не пульнули по ненароку».
– Тут пострелял один…
Чуть кивнув в знак того, что он внял чуши пентюхов, взяв за первую их «сожи?г», кой будет-де, Разумовский досматривал, как в бурьянном стоянии от усилий косцов оголилась прогалина и как просека изошла вниз, к речке, блещущей солнцем, так что возникла с виду площадка, годная для гандбольно-теннисных игр. Махнув косарям: «Кончай!» – расплачиваясь, он выделил резко вставшую в стороне в бурьянах, там, где не кошено, фантастичную, в перьях, явь под космами светлых пышных волос, вдруг двинувшуюся медленно, отчего разноцветные и обильные перья стали порхать. В реальности явь шла в бабочках: перламутровки, ио, морфы, нолиды и голубянки, белые с красным зорьки, жёлто-лазоревые зеринтии, адмиралы и траурницы в бархате, призрачные стеклянницы, махаоны, лимонницы, олеандровый бражник, совки, репейницы, мимевземии, углокрыльницы, крупноглазки, хохлатки, бархатницы, чернушки, нимфы, капустницы, аполлоны, медведицы, подалирии и павлиньи глаза – обычное для российских широт и чуждое, всё мерцало, кишело и трепетало, переливалось, реяло, таяло, друг за дружкой взлетая и обнажая зыбкую в формах плоть. Три спутника созерцали зрелище. А затем толстяк процитировал:
– Узкоплечий, широкобёдрый, коротконогий и низкорослый пол мог прекрасным счесть разве что сластолюбец, мысль Шопенгауэра, вроде…
– Не низкорослый, нет! – вставил младший с восторгом. – Нимфа, напея… Полубогиня… Чудно, божественно!.. Вот что жизнь на природе!
– Жить на природе – значит жить разумом. – Возразив, Разумовский умолк скривясь.
Будь факт женщиной, мнил он, в качестве ясной, определённой, распространённой в мире реалии, о которой есть знания, он бы смог судить; но что шло – избегало оценок из-за миражности и игр света. Бабочки чудились, – он внушал себе, – от жары либо солнца. Не было, кстати, пары косцов-пьянчуг, чтобы их расспросить о мороке: получив свои деньги, братья ушли бурча. Разумовский поправил правильный галстук. Так, всё… Стоп. Хватит… Нужно спокойно сосредоточиться. Солнце сдвинется – лучевая проекция исключит мираж. Это – явно «случайное», что являет не сущность, нужную разуму, но попутное, химеричное, зряшное. И он галстук расслабил. Ибо случайное оттого случайно, что есть лишь миг, не дольше; вроде как бог у всех во языцех, благо отсутствует… Разумовский забыл, что миг порой растяжим, а вечное мимолётно, и что в случайностях скрыто главное, коренное. Он видел девочку лет в тринадцать, с космами, в пляжных древних очках, обычную, исключая раздетость, зыбкую голость. И – махаон над ней… Она шла, будто их троих не было. Он признал, что она будит чувства, в коих стихия.
Первый встрял младший из москвичей: – Э-э… Девушка, сколько времени?
Та застыла под взбитыми клочковатыми прядями светлых длинных волос. – Не знаю, – произнесла.
– И вправду, знание вредно, – шумно вздохнул толстяк, отираясь от пота мятым платком. – Уверен, будь вы учёней, нам стопроцентно не повезло бы. Нам не открылась бы ваша прелесть.
– Значит, не знаете, вы решили? – вёл младший, пятясь, а после рыща пальцами в джипе. – Кстати, не ходят этакой голой, милая нимфа. Тоже не знали?
– Нет. Я не знаю ни А ни Бэ. Я дура… – Та подступила, и, кроме бабочек, что вились вокруг, да сияния, от неё исходящего, ничего на ней не было, также не было тени. Девочка зыбилась всей своей белокожестью с ванилиновым запахом. – Меня Даной звать, – вдруг добавила.
– Дана?.. – вытащил камеру из баула младший. – Я Тимофей… А, Дана, ты не могла бы, скажем, очки снять? – И, когда «нимфа» сняла очки, удивив блеском глаз, он навёл объектив, сказав: – Ты гордишься незнанием? – Аппарат начал щёлкать.
Шорох отвлёк их. Это приблизилась голова, что двигалась над бурьянами с той поры, как их джип прикатил сюда, и случилась художником, мешковатым, плешивым, в сером плаще, пусть зной был вокруг немыслимый. Не вступая на выкос, сделанный братьями, он, в траве по грудь, начал ставить мольберт, шумливо и неумело.
– Хвалишь незнание? – продолжал речь младший, глядя, как девочка навлекла очки на глаза. – Познание – долг наш, славная Дана. Мысля, я есмь. Ведь мыслить и быть – тождественно… Дана, дева-напея, мыслишь ты или нет?
– Ох, – с паузой был ответ. – Не думаю и не знаю ни А ни Бэ.
При смехе двоих у джипа и при суровой мине высокого, в эксклюзивной рубашке с галстуком дядьки, Дана прибавила: – Бог дал жизнь. Не слышано, что Он дал и знание. Разве можно знать?
Младший, делавший съёмку, замер. А Разумовский, выявив логику в подростковом нелепом, претенциозном, мнил он, юродстве и собиравшийся завершить спор вставкой «случайности» голой, зыбистой, в странных бабочках девочки на цветущем пространстве около речки в рамки логичных чётких суждений, чтоб оправдаться в неких волнениях, внешне, правда, не видных, но возбуждённых в нём, развернул аргумент:
– Хм. Знание ни к чему, да, девочка? «Без того я жива, эффектна», так, верно, мыслишь ты? Но, сказав «я не знаю ни А ни Бэ», ты призналась, что знаешь, что ты не знаешь их. Получается, знать возможно. – Выдав сентенцию, он взглянул на свидетелей правежа уверенно, со значением.
Дана, тронув лоб, словно думая, вновь сняла очки и спросила:
– Как знать язык ваш?
– Как знать язык наш? Не понимаешь? Но ты ведь русская? Явно, русская. Вот по-русскому и ответь.
– Наверное, вам ответ не нужен. Нужно, наверное, чтоб я думала, как вам нравится. Но в словах жизни нет.
– Точней скажи: жизни? истины? – уточнял Разумовский.
– Ох, – Дана молвила, всё с рукой у лба, на которой сидели бабочки. – Вы, реши вдруг: знать невозможно, – вы бы сказали, что, кто заявит: «Нет, знать возможно», – знал бы вдобавок и невозможность знать. Об одном и о том же – разное. А на ваш вопрос… Можно знать или нет? Спросили вы, так как знаете? Получается, можно знать и не знать, раз спрашиваете, чтоб знать. – Она улыбнулась, тихо добавив: – Ох, я не знаю ни А ни Бэ.
Все смолкли.