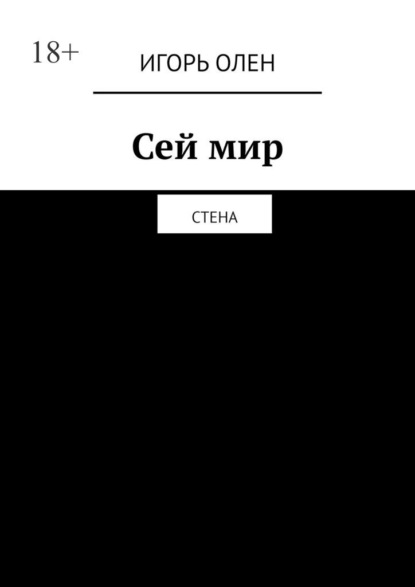По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сей мир. Стена
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дана не знала «что» и ушла.
Спустя два дня, Дану взяли в детский приёмник. Взяли бы раньше, будь она нечто определённое, то есть нечто постижное медианным сознанием в силу схожести и подобия свойств и форм людских. Но была Дана явью, в чём затруднялись даже и пол назвать и найти, скажем, отклики на явления мира, но и больной не была в той мере, дабы отправить с ходу в психушку. В ней, восьмилетней, грезилось сила, не полагающая мир сущим, но норовящая, подступив «к вещам» («Zu den Sachen») чуть не вплотную, выяснить, что они из себя де-факто, и обрести бытийность и достоверность, не вытекающую из догм, суждений либо предвзятостей. В Дане тот эффект, что, не видя в ней ясного и привычного, позволяющего закрыть вопрос, люди смутно гадали, не понимая, что интерес их тем стеснён, что столкнулся с премирным неким феноменом, в коем женское и мужское, истинное и ложное, да и нет, свет и тьма, смерть и жизнь, диссонанс и гармония и т. д. оппозиции пребывали неслитно и нераздельно в теле и в психике. После встреч с ней молчали, не отослав её к мозгоправам, не полюбив её. То есть не было и тогда ещё в ней того, чтоб, связав концы и начала, этим созданием овладеть, поняв, ибо теми, кто понят, мы обладаем. Дана, фактически, был вопрос без ответа, предупреждение, что, закончи хоть Гарвард и переполнись всей в мире мудростью, – на вопрос не ответишь.
Дану раздели и грубо вымыли, удивляясь уродству. Сумочку, что была при ней, отобрали. Но Дана ведала кардинальное, сопряжённое с извлечёнными из той сумочки письмами, да не так причём, что, мол, некая область, некий район, село, Серафиму Федотычу, но в белёсой размытости ей зияли подвижные турбулентные скважины, сквозь которые видно.
Дети в детдоме часто дрались, проказили, обзывали друг друга и отнимали у Даны пищу. Дана не спорила: ей и худшее раньше было без разницы; а теперь, после колли, есть ей не нравилось. Дана, в общем, могла есть, – но и не есть могла; чувства голода, жажды, впрочем, и зноя, Дана не знала; если точнее, то прекращала знать. В классе дети шумели; Дана молчала большею частью, чем раздражала многих соклассников: побродяжек, отказников, хулиганов и даунов. Дети жаждали бурь и ярости как привыкшие их терпеть; поэтому ей внушили фразу, должную «заводить училок», и Дана, спрошенная, талдычила:
– Я не знаю ни А ни Бэ.
Смеялись.
Вряд ли смеялись, если бы ведали, что не тупость рождала данины странности, а иная перцепция, что задачки и правила означали условности, ей враждебные, и задачка про фирмы, строящие та 5 домов, эта 7 зданий в год, продлялись внутри неё в Апокалипсис шесть-шесть-шесть, как писано, что «здесь мудрость» и кто «имеет ум, тот сочти числа Зверя, ибо те числа суть шесть шесть шесть». В стремлении цифр к порядку был ужас Зверя с многими ртами и диадемами на рогах, но главное, что была там погибель рода людского. Вряд ли смеялись, если бы знали, что ей затмение, превышавшее самый яростный ослепительный свет, мешало знать.
Формы Даны дивили: дети, раздев её, бормотали:
– Нет ничё! Ты, Данюха, как кукла, блин!
Дана всё позволяла, чтобы ребята с нею дружили, ибо радушие Дане нравилось. Только с ней не дружили: больше мытарили, изгалялись. В общем, дошло к весне, что решили устроить ей «как у девочки». Собрались к ней оравою во главе с бойкой Галей, стали держать её. Облачённая в белый рваный халат, со скальпелем, Галя, детище пьяниц в роли хирурга, ляпнула через белую медицинскую маску:
– Вы умираете, пацыэнт. Я знаю ваши болезни, я их учила в мединституте, и я спасу вас. Вашу болезнь звать «дура»; лечится снизу вверх… Наркоз давай!
Дане брызнули в нос шампунем. Произвели разрез, и другой разрез…
Вслед за чем все умчались с визгом за Галей, перепугавшись. Дана звала в слезах:
– Мне не больно!
Про «операцию» новость вздыбилась и клубилась в подробностях; ребятня донимала Дану глумлением. Завалив третью четверть, всеми шпыняема, Дана как-то пошла сперва вдоль забора проулком и на вокзал затем, а оттуда, сквозь вихри и турбулентность, чем ей мерещился мир вокруг, долго ехала, говоря, коль спрашивали: «Я к дедушке». После Дана тряслась полдня в кособоком автобусе по апрельским пригоркам с редкими рощами и дичающими полями. Кончился путь в Щепотьево, подле речки в долине меж косогорами. Там открылись: храм красного кирпича, разваленный, и два дома, кирпичные, но с сенями из дикого светловатого камня; меньший, при садике, был обочь родника, текущего к речке лугом из бледносерых, высохших, утрамбованных снегом за зиму трав с торчащим столбом над ними. Столб пронзал колесо телеги с ветхими деревянными спицами, на которых толокся немощный старец. Дана, хоть маленькая, достала бы исхудалые и в коросте ступни его. Но она не решилась и подняла взор выше, по мешковинным штанам – к хламиде, к ласковому кривому лицу.
– Ты дедушка?
– Про тебя мне писали раз… – и тот слез. – Я дедушка, но двоюродный… Я вернее, твой прадед, звать Серафим меня.
Он провёл её в дом с квадратным столом близ сводчатого окошка плюс с табуретками и кроватью близ русской печки; выслушал, что могла ему правнучка рассказать; вздохнув затем, мол, «конец» его «подвигам», начал печь топить и еду варить, говоря, что они «проживут»: ему сюда носят пенсию, одевается он в ничто, ест мало и Дане тряпок – шкаф от прабабки.
– Я ведь не есть могу, – сообщила вдруг Дана, чувствуя, что так лучше, именно: здесь живя, ей не есть, совсем.
Познакомив в другом дому Дану с пьяницей лет под семьдесят – с бабкой Марьей, с курицами и псами, дед ушагал на «столп» с насаженным колесом – стоять на нём; дед стоял фасом к церкви – к храму из красного кирпича в развалинах; он стоял, ухватясь за столп. На закате он медленно и кряхтя уселся на колесе своём, свесив голые необутые ноги, и задремал. «Подвижничал» этак столпником.
Дана жить пошла в сём Щепотьево в древнем доме-избе, лепившемся у подножия бесконечного склона, к речке сходившего. Она видела деда (или же прадеда) на столпе то на жухлом апрельском травном лугу, по коему мчали палы, то в сорняковых ордах июля, что возносились даже до старческих тощих ног в кальсонах, либо в сугробах, лезших до спиц колеса подвижника В холода выявлялись струями дыма крыши Мансарово и Лачиново на востоке долины маленькой речки; запад же был таинственен… Дед в морозы слезал порой за нагольным тулупом и чтобы чай попить.
Было им хорошо вдвоём; ни души в снегопад и ливень; а и в погоды разве в неделю, в месяц пройдёт кто: либо поп «флавского», дед поведал, прихода батюшка Глеб заявится повздыхать про «тёмные времена» для веры, либо зятья придут к проживавшей здесь во второй избе в этом самом Щепотьево вышеназванной бабке Марье, – «оба два из Мансарово», объяснялось.
Дана гуляла: к близкой к ним церкви ли (а вернее, к развалинам), что дед звал «Вознесение», где погост пучил холмики без крестов и с крестами и с обелисками; вверх на склон ли, так что за древним, брошенным садом было бурьянное бесконечное поле, раньше «пшеничное», вспоминал дед; к сёлам ли (к отдалённым Мансарово и Лачиново) вдоль руин в садах и столбов без проволок; к быстрой речке ли, дедом званной «Фисон» (хоть имя у речки «Лохна»). Жить-быть в Щепотьево Дане нравилось. Здесь тотальная мировая путаность обнажала вдруг контуры неподдельного нечто, близкого Дане… Годом позднее Дана сдружилась с маленьким мальчиком из Лачиново, приходившим рыбачить, – с Ваней.
Дана не ела и не спала теперь. Если дед не молился, Дана присаживалась к столпу его, чтобы слушать, что он расскажет.
– Думаешь, испокон так было? – раз тёплым вечером завздыхал дед, кончив с ней библию на «Второй книге Ездры», слез с трудом с колеса на столпе своём и повёл её мимо грустных, сплошь забурьяневших, в ряд, руин по заросшей дороге. – Было тут, внука, прежде Щепотьево; и сыздетства оно во мне. Ой, и доброе было это село у нас! Тут, направо, Сигай жил, тощий-претощий, а раз под лошадь встал – и понёс её; он мешок пятиведерный от земли на чердак швырял. Тут, где клён, тут жила раскрасавица, к ней ходили из города; тьма парней толклась! с Тулы сам секретарь был; девка твердит ему, чтоб венчался с ней в церкви, и, хоть за то под расстрел шли, он согласился. А через год она наезжала с другим с Москвы и старушкой скончалась. Смерть красу не должна губить, думаю… Внука, тут… – Дед отвёл ветку вишни, ткнул на кирпич в траве. – Тут наш Собственно Барин жил; он на деле байстрюк был, тоись внебрачный, но сильной гордости; сам пастух, а кто кликнет простецки, он тому: «Я вам, собственно, ни вот столько не Митрич, я вам не ровня»; так и был прозванный. Комиссары приехали: «Ты ли будешь Чадаев?» – «Собственно, буду я Чаадаев, – он отвечает, – званья дворянского». Чаадаев и вправду был, но не он, а отец его, дворянин. Чадаево, что за храмом, с нашим Щепотьево и другими селищами – все его при царе считалися; предводитель дворянский был Чаадаев! Собственно Барина и к стене, врага, – пролетарская революция! – но, выходит, за гордость; был байстрюком он… – Дед повздыхал чуть-чуть. – Нет Чадаева. От Чадаева чад один, от Щепотьева нынче только щепотка; сгинули сёлы-то… – Дед опять пошёл и держал Дану за руку, говоря: – Под вязом, – глянь, там повыше, – прежде бандит жил, после войны жил; выйдет на тракт и грабит; знали про это, но откупался, вот как теперь в стране, но не доллары, а пришлёт самогонки, мёдику, яйца, кур, поросёночка. Был смельчак один, заявился в милицию, что такой, мол, на Сталина на товарища матом, – это придумал он на бандита, чтоб засадить того, а ему: напиши всё; он написал как есть, но милиция: «Почерк твой, наймит буржуазии? На-ка срок тебе за товарища Сталина, что его ты охаивал!» Слёг бандит сам собой, лишь в конце признал, что убийцей был; Бога чувствовал. Тут… – дед хлопнул по липе подле других руин. – Немцы к нам не дошли в войну вёрст на пять, но снаряд прилетел сюда и убил ребятёнков… Там, – дед махнул рукой. – Внука! Там вон, кого я любил, жила; а теперь там развалины… – Он, ссутулившись, смолк вздохнув.
В мае прибыли из района власти; деду с оркестром дали медаль, шумя: «Обрели героя!» Он, не слезая с шаткого неустойчивого столпа, держал звезду в кулаке и плакал. Дали и премию: продуктовый набор да водку, – и бабка Марья вечером испекла пирог, напилась, после мигом всё съела, горько стеная: «Вымру, как будете?»
Славный факт отразили в прессе, при фотографии, где старик при медали на колесе стоит. Наезжать стали с Флавска (это райцентр их), с Тулы, с Рязани, – даже с Москвы для фото! – спрашивать о судьбе и истине. Дед твердил, его рок – «на столпе стоять», участь мира – «закончиться», ну, а истина значит «Бог Живой».
– Что, бог может быть мёртвым? – спрашивали насмешливо.
Дед молчал.
На «УАЗике» приплывал бездорожьем «батечка Глеб», – звала его бабка Марья. Он в рясоносной тучной телесности говорил о житье-бытье, о погоде, о власти денег и завершал визит рассуждением о «таких-сяких», кои ищут спасения, но притом «громоздят соблазны».
– В подвиге каждом внутренний строй в цене. Христианин – чин внутренний, – повторял он из «отцев» (Марка Пустынника). – Только внутренний подвиг, подвиг духовный, а не наружный, вот что потребно! Подвиг ума. И мысли. Ты же – в соблазн стоишь, во прельщение.
– Грех есть именно от ума и мысли, – дед отвечал ему, – не в упрёк тебе, отче Глебушка.
– В общем – истина, Серафиме! Истина лишь в соборном!
– В общем-соборном я на войне был; после был в лагере, в Магадане… Истина в частном, – столпник вздыхал.
И спорили… «Отче», сидя в «УАЗике» на бурьянистом, слякотном предосеннем лугу в дожде, под трухлявым столпом со столпником, выпивал, твердя:
– Серафиме, раб Божий! Ты хоть герой войны, только истина человекообразна. Что в человеке – это и в истине. Так что зря на столбе торчишь. Будь послушливей – станешь истинней! Ибо истина кротка, благоприлична, смиренномудра!
Столб покосился перед двухтысячным (окрестили «миллениум»). Затяжная весна была! В майский снег, побеливший сад, занедуживший дед, отыскав лист с ручкой, что-то писал, шепча, три часа и велел отнести письмо на почтамт во Флавск.
– Десять, внука, там километров. Или двенадцать.
Дана, хворавшая отчего-то в этот год больше, чем дед в сто лет его, побрела с письмом. Немощь сказывалось в приливах, в сердцебиении, в затмевании спектров, чем представлялось ей всё доселе, и в подмечании вещных абрисов. Забывавшей былое, жившей в спокойствии, ей, шагавшей во Флавск с письмом, открывался «сей мир»: сперва от двух кровлей её сельца и развалин Чадаево – до лачиновских выпасов, после – к избам Мансарово, где ей молча дивились, «дуре щепотьевской». Эти сёла проследовав, Дана двигалась дальше в глинистой слякоти по дороге вдоль склона; минула Квасовку с белоснежным дворцом средь пальм и, пройдя разлог, зашагала в Тенявино, нежилое в концах своих, но с живым, подле церкви в руинах, центром, – чтобы увидеть вдруг городские дома вдали и шагать затем босоногой «кретинкою» под ехидными взорами, ибо в местной газетке было про «столпника» с невменяемой правнучкой – «воплощением духа вечной природы». Дана нашла почтамт; ей конверт опечатали, пока в зеркале вглядывалась в себя… Назад она шла невидяще до лачиновской предпоследней избы за тыном, возле которой впала в истерику – громко, бурно, навзрыд, смеясь притом, как от радости… В ту же ночь понеслась она вновь во Флавск, но бежала недолго, ибо у Квасовки низошла к сиянию подле речки Фисон, по деду, (Лохне, по-местному), дабы зреть в воде странный Лик, что взывал без слов: «Кто ты, кто ты?» Бок о бок с Ликом Дана пустилась к очень далёкому велелепному саду, но вдруг упала.
После скончалась Марья Ивановна. Погребли её средь бурьянистых частых вздутий погоста возле развалин местного храма красного… нет, багрового кирпича семнадцатого столетия; вслед за тем разобрали дом, увезли камень, шифер, кур, доски, прочий хлам на дворы свои её дочери и зятья, но бабкиных двух собак не взяли.
Так на Щепотьево и на призрак Чадаево стал один всего дом, кончавший строй бредшей много вёрст по разлогам и склонам электросети. Вскоре два сумрачных и взлохмаченных парня все провода сорвали: «Выпить нам нада, слышь? Бле, акей, цветмет…» Дед смотрел на них со столпа, к которому привязался, ибо, прочтя письмо, привезённое утром, начал вдобавок подвиг молчальника. Дану это пугало, и она крикнула:
– Ты зачем молчишь?
Дед ответил не сразу: прежде луна взошла. Стрекотали кузнечики и журчала вода течения, когда он, сказав, что отнюдь не молчит, а значится «во святом безмолвии, кое есмь неотступный, непрерываемый зов Бога и предстояние перед Ним», – опять умолк. Иногда он терял сознание, обвисал без сил. Дана робко трясла его.
В сентябре, в рождество Пречистой, он, после обморока, заплакал и, отвязавшись, пал со столпа на травы около Даны. Дождь стал накрапывать, но им было никак. Прочтя ей главу из библии, он внезапно вскричал:
– Зло злое! Где же, зло, мощь твоя?! Также ты, о, ад адский! Где же, ад, верх твой?! Жизнь присновечный только наследит, кто препоясани чресла истиной и оболкшеся в правду и восприимише полноверие, иже Бог Творец! И возжажда я к Жи?вому! Всеблаженни есмь кроткие, кои ищут чудес Его!.. А я был, внука, в храме сём Вознесения в дни давнишние дьякон, и в Соловках терпел, и берлины брал… Но прилепе душа моя к Богу!! – радостно, юно заголосил дед.
– Хватит, не стой столбом! – прекословила Дана.
– Ибо за всех стою, – восклицал он, – против падения, как мы пали во предках! Бога молить хочу! Звать меня Серафиме. Он, горний ангел, пал в ризы кожаны. Но теперь я восстать хочу, как восстал Фалалей в клетушке! как Варадат восстал, что сидел в мешке! как Иаков восстал, бездомный, будто собака! как Симеон восстал и сто лет стоял на столпе своём с вознесёнными дланями, так что думали, человек ли он. Мне как он стоять… – и, кряхтя, дед полез на столп. – Свет зажегши, кто же под спуд его?..
– Я уродка! – крикнула Дана. – Я как не мальчик и как не девочка. Я не знаю ни А ни Бэ.
Хотевший стать на столпе, косом теперь, на тележное, шатко-валкое колесо, дед слез твердя:
– Несть пол мужеский и ни женский. Ибо Един Господь надо всеми во всех. Ты слушай… – И он погладил ласково Дану грубой ладонью; на пиджаке его взблёскивала звезда. – Котёночка! Слушай тайну, кою не сказывал, лишь тебе скажу. Про тебя в книге Бога – верь, про тебя как раз! – что тебе дастся рай. Исайя, третья глава, стих пятый, что воды Лохны, прежде Фисона, струйные тихо, из-за Чадаево и Щепотьево, из-за Ура с Харраном, льются из рая к нам. Лохна – райская, ибо древле Фисон звалась. Мы к востоку от рая, в этом Щепотьево. А в раю, внука, так пойдёт, что, пускай мы тут в смерти, – там будет жизнь для нас, и ты будешь там. Оградись и внимай себе. Ибо ты вне законов, райское семя!