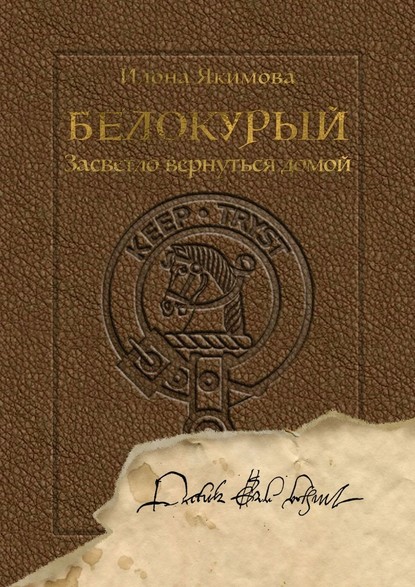По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белокурый. Засветло вернуться домой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вдовая герцогиня Саффолк вам не годится?
– Мне больше подошла бы одна из сестер короля, – отвечал с иронией, – но вы ведь не отдадите.
– Верите ли? Я бы отдал, но теперь замужество сестер короля рассматривает Совет, едва ли он согласится. Берите герцогиню, она в ваших летах и недурна собой, не говоря уже о приданом.
– Добро. Договоримся покамест только на земли, без жены. Я не готов сейчас распорядиться своим именем – когда будущее мое довольно неопределенно.
В глазах Сомесета отчетливо мелькнула насмешка – что ж, он до сей поры надеется на брак с де Гиз? Вот пустое тщеславие!
– Но что вы хотите взамен, мой дорогой протектор?
– Сдайте замки, принесите присягу Эдуарду. Вы ничего не теряете, уже сейчас на ваших землях хозяйничают люди двурушника Аррана. К лету, а то и через год вся южная Шотландия до Файфа будет под моей рукой, под именем короля. Дав присягу теперь, вы выиграете вдвойне – вернув свое и приобретя новое. Подумайте об этом.
Босуэлл вернулся в Сент-Джайлс, полный черных сомнений.
Ночь без сна. И вторая – тоже.
На родине он до сей поры вне закона.
Гражданский суд – бог с ним, когда он его боялся? Любое обвинение гражданского суда снимается тремя сотнями аркебузиров вокруг Парламента и прямым вопросом регенту, не пора ли заканчивать комедию. Но суд церковный… пока примас Шотландии не утвержден Святым престолом, некому опровергнуть нелепый навет, но ведь Джон Гамильтон и не станет его опровергать. Означает это, что на своей земле, среди своих людей Патрик Хепберн будет в опасности день и ночь, ибо благословен от Господа любой, убивший его.
Или вести жизнь отщепенца, укрываемого только своими – ибо Брихин прав, Реформация в Шотландии не настолько сильна, чтоб стать прямой политикой церкви и государства.
Третья ночь без сна.
Это у него-то, когда-то засыпавшего мгновенно и на голых камнях.
Англия, Лондон, весна 1547 года
Крупный козырь был у Эдуарда Сеймура, и он умело пускал его в ход на переговорах с шотландцами – сидельцы Сент-Эндрюса. Брат виконта Лайла, адмирал Северных морей Эндрю Дадли вот-вот должен был отправиться с подмогой в замок – и с присяжными статьями, в которых упорный Норман Лесли обещался во всем подчиняться герцогу Сомерсету. Накануне отправки Дадли на север герцог Сомерсет вызвал Босуэлла к себе.
– Вот, – и выложил на стол проект статей для лордов Сент-Эндрюса, – начните с малого, Патрик. Хотя помню я времена, когда вы не были столь щепетильны… Подпишите мне это.
Сдача замка англичанам. Неподчинение воле королевы-матери и регента до последнего. Способствование английскому браку Марии Стюарт. Присяга королю Эдуарду. Передача сына графа Аррана в руки англичан. Недурно, недурно… однако для того, чтоб Норман Лесли, которому, в прямом смысле, отступать было некуда, согласился со всем этим письменно, требовались гарантии, а именно – имена прочих лордов, и лордов могучих, под этими статьями. Это и прочел Патрик Хепберн в блеклых глазах герцога Сомерсета, устремленных прямо на него.
– Пожалуй, – сказал Чародейский граф, чувствуя, как подгорает под ним земля, – статьи разумные. Но что я с этого буду иметь, милорд протектор? Я, которого вы кормите пока что одними обещаниями – даже теперь, когда вам не нужно отчитываться в каждом пенни перед старым Гарри?
Полугода не прошло, как Генрих Тюдор канул в Лету, но среди былых его придворных почтения к тени короля не наблюдалось вовсе.
Сомерсет поперхнулся:
– Патрик, имейте совесть! Призыв нелепый, я понимаю, но все же… нет, это вы, Босуэлл, кормите нас обещаниями – уже приблизительно двадцать лет!
Тот сердечно улыбнулся:
– Так разве я не был лоялен к вам все эти двадцать лет? И такую малость вы желаете теперь в подтверждение моей преданности? Я подпишу. Но пусть первым подпишет Лесли, это в его интересах – завоевать ваше доверие, милорд протектор. А на словах можете обещать ему мое ручательство – честью – за полную и безоговорочную поддержку. Впишите в статьи мое имя!
Они все предусмотрели, но Бог был не на стороне Англии – весной умер Франциск Валуа, последовав в ад за своим соперником старым Гарри, а тот, кто его сменил на французском престоле, Генрих Второй, был не только весьма благорасположен к фамилии де Гиз, но теперь имел наследника, которого желал помолвить с маленькой королевой Шотландии… Корни Старинного союза зазеленели новыми побегами, за Шотландию Генрих Валуа готов был померяться силами со старинным же врагом. И предпринял для того действия скорые и решительные. К середине июля итальянский дьявол Леон Строцци запрудил Северное море вокруг Сент-Эндрюса десятками галер, забросал горячими ядрами с кораблей. До последнего момента англичане не знали ни куда послан Строцци, ни с какой целью, и вот… замок взят, сын регента возвращен трепетному отцу, а лорды-убийцы, включая пламенного Джона Нокса – закованы в кандалы, загружены на суда, увезены во Францию – кто для выкупа, кто, помельче, на каторгу. Но хуже всего было то, что в руках французов оказалась вся изменническая переписка Нормана Лесли с англичанами, и там всплыло и засмердело такое… включая письменное обещание короля Эдуарда женить Босуэлла, «возлюбленного кузена», на вдовой герцогине Саффолк. Патрик выдохнул и поблагодарил Бога и Брихина, который накрепко вдолбил ему привычку не ставить подпись под теми документами, от которых впоследствии нельзя отпереться. Да, там нет его подписи. Но это пахло очередным обвинением его, отсутствующего на родине, и очередным отчуждением земель. Быть может, прав Сомерсет, и проще сдать крепости англичанам – хоть на время – лишь бы земли его не достались регенту? Но внезапно список двухсот лордов с упоминанием во главе именно Патрика Хепберна, графа Босуэлла, произвел довольно странное впечатление на Генриха Валуа, скорей, лестное для шотландца.
– Однако! – сказал король коннетаблю Монморанси. – Удивительна прыть этого молодчика. Сидит без гроша в Лондоне, а эхо его голоса доносится через пол-острова. Может, и впрямь, лучше было купить его? Сколько он теперь стоит?
Они зашли с той стороны и в тот час, когда Чародейский граф уже и не ждал французской милости. Граф Босуэлл порядком повеселился, когда понял, что отныне – негласно, разумеется – обязан представлять французские интересы при английском дворе.
Сомерсет был не просто в гневе, но в ярости. Шотландцы, черти, взяли обратно штурмом Лангхольм, прежде занятый англичанами, французские агенты Генриха Валуа через шотландцев же мутили воду в Ирландии, а теперь еще и это… Адаму Оттербурну предоставлена последняя аудиенция у короля Эдуарда, а потом предложено собирать вещи. Новая война висела над горизонтом, как предвестие летней грозы в воздухе. В Лондоне было душно, пыльно, смрадно. И раздражение милорда протектора, помимо прогнанного Оттербурна, неминуемо вылилось на того, кто оказался под рукой – на старинного и увертливого знакомца, слишком важного по своему положению в грядущей игре, чтобы им пренебречь. Три замка – три! – и все в Приграничье. Ведь даже на статьях Сент-Эндрюса сукин сын сорвался с крючка.
– Хватит ходить вокруг да около, Патрик, – прямо предупредил его Сомерсет, – я ценю ваше двуличие, как часть вашего обаяния, но надо же и меру знать! Я выйду через границу не позже сентября. Желаете ли вы, друг мой, чтоб стены Хейлса были разнесены вдребезги ядрами моих пушек? Подумайте… но не слишком долго.
Гроза пролилась над полями Сент-Джайлса и прошла в сторону, на север, к родным краям. Граф Босуэлл, человек без власти, денег и кинсменов, метался по спальне от стены к стене, иногда замирая в кресле у камина – нутро сводило, как от физической боли, а еще он, пугающе и непривычно для ближних, молчал. Это был тот край, с которого – если соскользнешь – обратно карабкаться всю оставшуюся жизнь. Он уже однажды сдал Хейлс, было, но теперь-то – уже не своим, а именно скотам-сассенахам.
Хэмиш МакГиллан наблюдал, предусмотрительно из угла, не попадаясь под руку, за метаниями лэрда, Молот привычно загромождал собою дверной проем, Майк Бэлфур сидел на полу, возле камина. Перо сохло на столе, брошенное на лист бумаги, ожидая единой строки, Н, перечеркнутое Е – монограммы, которую знали все, даже и те из челяди, кто не умел читать вовсе. Все глаза были устремлены на Босуэлла. Они были сейчас единым целым, без разницы, что он – господин, как бывали единым целым с ним в рейде. Они и сейчас были в рейде, горстка шотландцев в глубоком тылу сассенахов, и в глубоком поражении – по итогу того, что требовалось сделать. Они, эти трое, не осуждали – ждали единого слова Босуэлла, чтобы отправить гонца. И гонец уже готов, Джон Прингл начищает галлоуэя внизу, на конюшне, под благоухающей в окно старой липой во дворе.
Ждали одного слова, понимая, что оно прозвучит неизбежно, неотрывно глядели на господина. Это сводило с ума его еще больше, если б могло – эти три пары глаз, словно тем самым на него смотрели все, все его люди, кого он сейчас отдавал под власть Сомерсета. Потому что Патрик Хепберн иллюзий не питал и прекрасно понимал, что отдает не на процветание. Наконец заговорил, не глядя на них, не оборачиваясь, сидя лицом к камину, скорчившись в кресле.
– Хейлс? – левый угол рта у него подергивался. – Сдайте Хейлс, пусть подавятся. Но того, кто откроет им ворота Хермитейджа, я сам отправлю в ад заживо! За Хермитейдж стоять насмерть!
Оклики на дворе, топот копыт, слова на бумаге, уносящиеся на север. Могильная плита его отца в Хаддингтонском монастыре расколется от гнева, раны Адама Хепберна откроются и начнут кровоточить. Дом, где он родился, спальня, где был зачат, холл, которым проходил – в серебристом атласе венчального костюма, неся на руке своей еле ощутимое прикосновение новобрачной… Его радость, его библиотека – Грей де Вилтон, да гори душа его в аду, устроит там конюшню. Но лучше так, чем жизни десятков людей, положенные в обороне, и десятков и десятков – детей, женщин и стариков, умерших от голода, когда англичане сожгут его поля. Лучше так. И отец понял бы его.
Пожалуй, это был тот час, когда он впервые спросил себя – кто он и что здесь делает? Когда душу его захлестнула волна такой черной ненависти к себе самому, что граф Босуэлл с неделю не показывался на людях.
В полях над Сент-Джайлсом косо взблеснула узкая, далекая молния, спустя несколько мгновений в ставни ударил гром – и первые, редкие капли новой грозы.
Замок Стерлинг, Стерлинг, Шотландия
Шотландия, Стерлинг, Стерлингский замок, лето 1547
Ветер с нагорья нес дождевые тучи, накрывал скалу с головой. В ставнях выло, гремело, стонало. Приемную королевы-матери освещал зев камина, белый единорог над ним купался в волнах теплого воздуха. Королева-мать была одна – насколько это возможно при фрейлинах, разместившихся за своими делами в углу покоев, переговаривавшихся вполголоса. Королева-мать тосковала.
Казалось бы, сердцу время молчать в этой сумятице дел, хлопот, неурядиц, слишком явно приближающейся войны с англичанами. Набор рекрутов, табуны лошадей, распределяемые на сборе конницы по Границе. Роберт Максвелл, вернувшийся из английского плена – с него взяли пеню на восстановление Лохмабена, отбитого у англичан, с Гленкэрна взыскали существенный залог за лояльность. Регент издал приказ о восьмичасовой боеготовности приграничных гарнизонов к началу августа. Слезный запрос через Канал, во Францию, к Генриху Валуа – покамест ее лично запрос, не запрос Совета: денег, чтобы содержать войско в десять тысяч на протяжении шести месяцев, пикинеров, артиллерии с припасами и фортификаторов, понимающих в осаде крепостей… Осада Лангхольма и его покорение. Парламент одобрил новый налог – в тридцать пять тысяч фунтов – на приближающуюся войну. Эдинбург и Данбар спешно укреплены, флот готов защищать побережье. Ко второй декаде августа в Эдинбург призваны вожди Севера, к концу месяца в расположение частей должен прибыть клир, а там – едва англичане выйдут из Ньюкасла – восемь гонцов полетят в восемь частей королевства, с вестью и горящими крестами, с тем, чтоб все, могущие держать оружие, собрались возле Эдинбурга. Будет битва, не менее великая числом, чем при Флоддене, но теперь Шотландия устоит. Не может не устоять.
И о чем сей момент думала она, королева… она, женщина?
О человеке, которого скоро год не было под ее рукою – не говоря уже, что в постели. О человеке, который врос в сердце куда глубже, чем она могла бы вообразить – и теперь, когда был вдали, не тьма души его вспоминалась королеве, а тепло дружеского участия и поддержки. Она молчала, когда Босуэлла осудили и изгнали, ибо то было справедливо – ведь и сам не пожелал покориться. Но кто безмолвно, бесчувственно справится с болью, когда часть тела твоего отсекают, отдают на корм собакам – Мари де Гиз в самом деле ощущала разлуку именно так. Ей телесно, физически не хватало рядом с собой Патрика Хепберна. Им нельзя делить постель и жизнь, верно. Но видеть его каждый день… говорить с ним, слышать голос, любоваться его красотой, возмущаться дерзости, улыбаться шуткам. Обсуждать все, что случилось за день, и все, к чему клонится дело в Шотландии – и в Европе вообще. Говорить, Господи, с кем ей теперь говорить, кроме него – так умело слушавшего, так тонко понимавшего каждую интонацию, каждое слово? Пусть продажен, пусть двуличен, пусть вовсе не любит, и был движим только похотью и тщеславием… Господь ему судья. Но пусть бы даже эта иллюзия дружбы, чем открытая рана боли, ярости, тоски, словно у волчицы, у которой егеря зарезали мужа? И какая глубокая горечь в том, что они так и не договорились – когда могли? Она в самом деле верила теперь, что могли договориться на соучастие, на поддержку.
Они не увидятся скоро.
Возможно, они вообще не увидятся вновь.
Чудовищно дерзкое его, насмешливое письмо Франциску. Так похоже на Патрика – блефовать даже на пороге обвинения в измене, под угрозой казни. Ибо вернись он теперь самовольно, как вернулся после смерти короля Джеймса, его бы ждал суд и заключение. Она своей волей правительницы не смогла бы предотвратить церковной расправы над ним, даже если бы и хотела… но хотела ли в самом деле? Или ей нужно благодарить Небеса, что самое великое ее искушение, самый черный грех теперь там, откуда нет им возврата – если только обстоятельства всей жизни их обоих, Мари де Гиз и Патрика Хепберна, не переменятся внезапно и полностью?
Королева стояла на скамеечке перед комнатным алтарем в малой приемной, опершись головой на руки… словно молясь. На самом деле слезы сами собой текли по ее лицу, как всякий раз, когда она вспоминала имя, облик, звучание голоса, тепло касания, былую нежность меж ними – пусть мимолетную, как сон пустой. Они уже не увидятся, не могут, не имеют права. Господь милосердный, пусть бы он сам выказал хоть видимость покорности, хоть малую часть преданности короне! Невыносимо быть в разлуке, невыносимо ничего не знать, и сознавать, что так будет всегда – особенно невыносимо.
Она и желала, и страшилась вести о нем.
И весть пришла.
Торопливо Мари утерла глаза, едва лишь грум распахнул двери приемной перед невысоким, очень живым в движениях человеком – тот просматривал бумаги, пришедшие с утренней почтой, прямо на ходу, нетерпеливо передавая прочтенное семенившему за ним слуге.
– Хейлс сдан! – молвил еще до поклона, поднимая глаза на королеву, Анри Клетэн, сеньор Дуазель, новый посол короля Франции в Шотландии. – Прошу прощения за дурную весть, Ваше величество. Люди Грея де Вилтона ночью заняли замок.
– Мне больше подошла бы одна из сестер короля, – отвечал с иронией, – но вы ведь не отдадите.
– Верите ли? Я бы отдал, но теперь замужество сестер короля рассматривает Совет, едва ли он согласится. Берите герцогиню, она в ваших летах и недурна собой, не говоря уже о приданом.
– Добро. Договоримся покамест только на земли, без жены. Я не готов сейчас распорядиться своим именем – когда будущее мое довольно неопределенно.
В глазах Сомесета отчетливо мелькнула насмешка – что ж, он до сей поры надеется на брак с де Гиз? Вот пустое тщеславие!
– Но что вы хотите взамен, мой дорогой протектор?
– Сдайте замки, принесите присягу Эдуарду. Вы ничего не теряете, уже сейчас на ваших землях хозяйничают люди двурушника Аррана. К лету, а то и через год вся южная Шотландия до Файфа будет под моей рукой, под именем короля. Дав присягу теперь, вы выиграете вдвойне – вернув свое и приобретя новое. Подумайте об этом.
Босуэлл вернулся в Сент-Джайлс, полный черных сомнений.
Ночь без сна. И вторая – тоже.
На родине он до сей поры вне закона.
Гражданский суд – бог с ним, когда он его боялся? Любое обвинение гражданского суда снимается тремя сотнями аркебузиров вокруг Парламента и прямым вопросом регенту, не пора ли заканчивать комедию. Но суд церковный… пока примас Шотландии не утвержден Святым престолом, некому опровергнуть нелепый навет, но ведь Джон Гамильтон и не станет его опровергать. Означает это, что на своей земле, среди своих людей Патрик Хепберн будет в опасности день и ночь, ибо благословен от Господа любой, убивший его.
Или вести жизнь отщепенца, укрываемого только своими – ибо Брихин прав, Реформация в Шотландии не настолько сильна, чтоб стать прямой политикой церкви и государства.
Третья ночь без сна.
Это у него-то, когда-то засыпавшего мгновенно и на голых камнях.
Англия, Лондон, весна 1547 года
Крупный козырь был у Эдуарда Сеймура, и он умело пускал его в ход на переговорах с шотландцами – сидельцы Сент-Эндрюса. Брат виконта Лайла, адмирал Северных морей Эндрю Дадли вот-вот должен был отправиться с подмогой в замок – и с присяжными статьями, в которых упорный Норман Лесли обещался во всем подчиняться герцогу Сомерсету. Накануне отправки Дадли на север герцог Сомерсет вызвал Босуэлла к себе.
– Вот, – и выложил на стол проект статей для лордов Сент-Эндрюса, – начните с малого, Патрик. Хотя помню я времена, когда вы не были столь щепетильны… Подпишите мне это.
Сдача замка англичанам. Неподчинение воле королевы-матери и регента до последнего. Способствование английскому браку Марии Стюарт. Присяга королю Эдуарду. Передача сына графа Аррана в руки англичан. Недурно, недурно… однако для того, чтоб Норман Лесли, которому, в прямом смысле, отступать было некуда, согласился со всем этим письменно, требовались гарантии, а именно – имена прочих лордов, и лордов могучих, под этими статьями. Это и прочел Патрик Хепберн в блеклых глазах герцога Сомерсета, устремленных прямо на него.
– Пожалуй, – сказал Чародейский граф, чувствуя, как подгорает под ним земля, – статьи разумные. Но что я с этого буду иметь, милорд протектор? Я, которого вы кормите пока что одними обещаниями – даже теперь, когда вам не нужно отчитываться в каждом пенни перед старым Гарри?
Полугода не прошло, как Генрих Тюдор канул в Лету, но среди былых его придворных почтения к тени короля не наблюдалось вовсе.
Сомерсет поперхнулся:
– Патрик, имейте совесть! Призыв нелепый, я понимаю, но все же… нет, это вы, Босуэлл, кормите нас обещаниями – уже приблизительно двадцать лет!
Тот сердечно улыбнулся:
– Так разве я не был лоялен к вам все эти двадцать лет? И такую малость вы желаете теперь в подтверждение моей преданности? Я подпишу. Но пусть первым подпишет Лесли, это в его интересах – завоевать ваше доверие, милорд протектор. А на словах можете обещать ему мое ручательство – честью – за полную и безоговорочную поддержку. Впишите в статьи мое имя!
Они все предусмотрели, но Бог был не на стороне Англии – весной умер Франциск Валуа, последовав в ад за своим соперником старым Гарри, а тот, кто его сменил на французском престоле, Генрих Второй, был не только весьма благорасположен к фамилии де Гиз, но теперь имел наследника, которого желал помолвить с маленькой королевой Шотландии… Корни Старинного союза зазеленели новыми побегами, за Шотландию Генрих Валуа готов был померяться силами со старинным же врагом. И предпринял для того действия скорые и решительные. К середине июля итальянский дьявол Леон Строцци запрудил Северное море вокруг Сент-Эндрюса десятками галер, забросал горячими ядрами с кораблей. До последнего момента англичане не знали ни куда послан Строцци, ни с какой целью, и вот… замок взят, сын регента возвращен трепетному отцу, а лорды-убийцы, включая пламенного Джона Нокса – закованы в кандалы, загружены на суда, увезены во Францию – кто для выкупа, кто, помельче, на каторгу. Но хуже всего было то, что в руках французов оказалась вся изменническая переписка Нормана Лесли с англичанами, и там всплыло и засмердело такое… включая письменное обещание короля Эдуарда женить Босуэлла, «возлюбленного кузена», на вдовой герцогине Саффолк. Патрик выдохнул и поблагодарил Бога и Брихина, который накрепко вдолбил ему привычку не ставить подпись под теми документами, от которых впоследствии нельзя отпереться. Да, там нет его подписи. Но это пахло очередным обвинением его, отсутствующего на родине, и очередным отчуждением земель. Быть может, прав Сомерсет, и проще сдать крепости англичанам – хоть на время – лишь бы земли его не достались регенту? Но внезапно список двухсот лордов с упоминанием во главе именно Патрика Хепберна, графа Босуэлла, произвел довольно странное впечатление на Генриха Валуа, скорей, лестное для шотландца.
– Однако! – сказал король коннетаблю Монморанси. – Удивительна прыть этого молодчика. Сидит без гроша в Лондоне, а эхо его голоса доносится через пол-острова. Может, и впрямь, лучше было купить его? Сколько он теперь стоит?
Они зашли с той стороны и в тот час, когда Чародейский граф уже и не ждал французской милости. Граф Босуэлл порядком повеселился, когда понял, что отныне – негласно, разумеется – обязан представлять французские интересы при английском дворе.
Сомерсет был не просто в гневе, но в ярости. Шотландцы, черти, взяли обратно штурмом Лангхольм, прежде занятый англичанами, французские агенты Генриха Валуа через шотландцев же мутили воду в Ирландии, а теперь еще и это… Адаму Оттербурну предоставлена последняя аудиенция у короля Эдуарда, а потом предложено собирать вещи. Новая война висела над горизонтом, как предвестие летней грозы в воздухе. В Лондоне было душно, пыльно, смрадно. И раздражение милорда протектора, помимо прогнанного Оттербурна, неминуемо вылилось на того, кто оказался под рукой – на старинного и увертливого знакомца, слишком важного по своему положению в грядущей игре, чтобы им пренебречь. Три замка – три! – и все в Приграничье. Ведь даже на статьях Сент-Эндрюса сукин сын сорвался с крючка.
– Хватит ходить вокруг да около, Патрик, – прямо предупредил его Сомерсет, – я ценю ваше двуличие, как часть вашего обаяния, но надо же и меру знать! Я выйду через границу не позже сентября. Желаете ли вы, друг мой, чтоб стены Хейлса были разнесены вдребезги ядрами моих пушек? Подумайте… но не слишком долго.
Гроза пролилась над полями Сент-Джайлса и прошла в сторону, на север, к родным краям. Граф Босуэлл, человек без власти, денег и кинсменов, метался по спальне от стены к стене, иногда замирая в кресле у камина – нутро сводило, как от физической боли, а еще он, пугающе и непривычно для ближних, молчал. Это был тот край, с которого – если соскользнешь – обратно карабкаться всю оставшуюся жизнь. Он уже однажды сдал Хейлс, было, но теперь-то – уже не своим, а именно скотам-сассенахам.
Хэмиш МакГиллан наблюдал, предусмотрительно из угла, не попадаясь под руку, за метаниями лэрда, Молот привычно загромождал собою дверной проем, Майк Бэлфур сидел на полу, возле камина. Перо сохло на столе, брошенное на лист бумаги, ожидая единой строки, Н, перечеркнутое Е – монограммы, которую знали все, даже и те из челяди, кто не умел читать вовсе. Все глаза были устремлены на Босуэлла. Они были сейчас единым целым, без разницы, что он – господин, как бывали единым целым с ним в рейде. Они и сейчас были в рейде, горстка шотландцев в глубоком тылу сассенахов, и в глубоком поражении – по итогу того, что требовалось сделать. Они, эти трое, не осуждали – ждали единого слова Босуэлла, чтобы отправить гонца. И гонец уже готов, Джон Прингл начищает галлоуэя внизу, на конюшне, под благоухающей в окно старой липой во дворе.
Ждали одного слова, понимая, что оно прозвучит неизбежно, неотрывно глядели на господина. Это сводило с ума его еще больше, если б могло – эти три пары глаз, словно тем самым на него смотрели все, все его люди, кого он сейчас отдавал под власть Сомерсета. Потому что Патрик Хепберн иллюзий не питал и прекрасно понимал, что отдает не на процветание. Наконец заговорил, не глядя на них, не оборачиваясь, сидя лицом к камину, скорчившись в кресле.
– Хейлс? – левый угол рта у него подергивался. – Сдайте Хейлс, пусть подавятся. Но того, кто откроет им ворота Хермитейджа, я сам отправлю в ад заживо! За Хермитейдж стоять насмерть!
Оклики на дворе, топот копыт, слова на бумаге, уносящиеся на север. Могильная плита его отца в Хаддингтонском монастыре расколется от гнева, раны Адама Хепберна откроются и начнут кровоточить. Дом, где он родился, спальня, где был зачат, холл, которым проходил – в серебристом атласе венчального костюма, неся на руке своей еле ощутимое прикосновение новобрачной… Его радость, его библиотека – Грей де Вилтон, да гори душа его в аду, устроит там конюшню. Но лучше так, чем жизни десятков людей, положенные в обороне, и десятков и десятков – детей, женщин и стариков, умерших от голода, когда англичане сожгут его поля. Лучше так. И отец понял бы его.
Пожалуй, это был тот час, когда он впервые спросил себя – кто он и что здесь делает? Когда душу его захлестнула волна такой черной ненависти к себе самому, что граф Босуэлл с неделю не показывался на людях.
В полях над Сент-Джайлсом косо взблеснула узкая, далекая молния, спустя несколько мгновений в ставни ударил гром – и первые, редкие капли новой грозы.
Замок Стерлинг, Стерлинг, Шотландия
Шотландия, Стерлинг, Стерлингский замок, лето 1547
Ветер с нагорья нес дождевые тучи, накрывал скалу с головой. В ставнях выло, гремело, стонало. Приемную королевы-матери освещал зев камина, белый единорог над ним купался в волнах теплого воздуха. Королева-мать была одна – насколько это возможно при фрейлинах, разместившихся за своими делами в углу покоев, переговаривавшихся вполголоса. Королева-мать тосковала.
Казалось бы, сердцу время молчать в этой сумятице дел, хлопот, неурядиц, слишком явно приближающейся войны с англичанами. Набор рекрутов, табуны лошадей, распределяемые на сборе конницы по Границе. Роберт Максвелл, вернувшийся из английского плена – с него взяли пеню на восстановление Лохмабена, отбитого у англичан, с Гленкэрна взыскали существенный залог за лояльность. Регент издал приказ о восьмичасовой боеготовности приграничных гарнизонов к началу августа. Слезный запрос через Канал, во Францию, к Генриху Валуа – покамест ее лично запрос, не запрос Совета: денег, чтобы содержать войско в десять тысяч на протяжении шести месяцев, пикинеров, артиллерии с припасами и фортификаторов, понимающих в осаде крепостей… Осада Лангхольма и его покорение. Парламент одобрил новый налог – в тридцать пять тысяч фунтов – на приближающуюся войну. Эдинбург и Данбар спешно укреплены, флот готов защищать побережье. Ко второй декаде августа в Эдинбург призваны вожди Севера, к концу месяца в расположение частей должен прибыть клир, а там – едва англичане выйдут из Ньюкасла – восемь гонцов полетят в восемь частей королевства, с вестью и горящими крестами, с тем, чтоб все, могущие держать оружие, собрались возле Эдинбурга. Будет битва, не менее великая числом, чем при Флоддене, но теперь Шотландия устоит. Не может не устоять.
И о чем сей момент думала она, королева… она, женщина?
О человеке, которого скоро год не было под ее рукою – не говоря уже, что в постели. О человеке, который врос в сердце куда глубже, чем она могла бы вообразить – и теперь, когда был вдали, не тьма души его вспоминалась королеве, а тепло дружеского участия и поддержки. Она молчала, когда Босуэлла осудили и изгнали, ибо то было справедливо – ведь и сам не пожелал покориться. Но кто безмолвно, бесчувственно справится с болью, когда часть тела твоего отсекают, отдают на корм собакам – Мари де Гиз в самом деле ощущала разлуку именно так. Ей телесно, физически не хватало рядом с собой Патрика Хепберна. Им нельзя делить постель и жизнь, верно. Но видеть его каждый день… говорить с ним, слышать голос, любоваться его красотой, возмущаться дерзости, улыбаться шуткам. Обсуждать все, что случилось за день, и все, к чему клонится дело в Шотландии – и в Европе вообще. Говорить, Господи, с кем ей теперь говорить, кроме него – так умело слушавшего, так тонко понимавшего каждую интонацию, каждое слово? Пусть продажен, пусть двуличен, пусть вовсе не любит, и был движим только похотью и тщеславием… Господь ему судья. Но пусть бы даже эта иллюзия дружбы, чем открытая рана боли, ярости, тоски, словно у волчицы, у которой егеря зарезали мужа? И какая глубокая горечь в том, что они так и не договорились – когда могли? Она в самом деле верила теперь, что могли договориться на соучастие, на поддержку.
Они не увидятся скоро.
Возможно, они вообще не увидятся вновь.
Чудовищно дерзкое его, насмешливое письмо Франциску. Так похоже на Патрика – блефовать даже на пороге обвинения в измене, под угрозой казни. Ибо вернись он теперь самовольно, как вернулся после смерти короля Джеймса, его бы ждал суд и заключение. Она своей волей правительницы не смогла бы предотвратить церковной расправы над ним, даже если бы и хотела… но хотела ли в самом деле? Или ей нужно благодарить Небеса, что самое великое ее искушение, самый черный грех теперь там, откуда нет им возврата – если только обстоятельства всей жизни их обоих, Мари де Гиз и Патрика Хепберна, не переменятся внезапно и полностью?
Королева стояла на скамеечке перед комнатным алтарем в малой приемной, опершись головой на руки… словно молясь. На самом деле слезы сами собой текли по ее лицу, как всякий раз, когда она вспоминала имя, облик, звучание голоса, тепло касания, былую нежность меж ними – пусть мимолетную, как сон пустой. Они уже не увидятся, не могут, не имеют права. Господь милосердный, пусть бы он сам выказал хоть видимость покорности, хоть малую часть преданности короне! Невыносимо быть в разлуке, невыносимо ничего не знать, и сознавать, что так будет всегда – особенно невыносимо.
Она и желала, и страшилась вести о нем.
И весть пришла.
Торопливо Мари утерла глаза, едва лишь грум распахнул двери приемной перед невысоким, очень живым в движениях человеком – тот просматривал бумаги, пришедшие с утренней почтой, прямо на ходу, нетерпеливо передавая прочтенное семенившему за ним слуге.
– Хейлс сдан! – молвил еще до поклона, поднимая глаза на королеву, Анри Клетэн, сеньор Дуазель, новый посол короля Франции в Шотландии. – Прошу прощения за дурную весть, Ваше величество. Люди Грея де Вилтона ночью заняли замок.