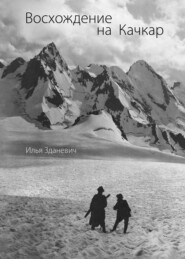По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я родился в Константинополе, когда русские стояли под Сан-Стефано[38 - Вариант: Св. Стефаном.][39 - Сан-Стефано – аристократическое дачное местечко на берегу Мраморного моря, предместье Константинополя, где во время Русско-турецкой войны по условиям Адрианопольского перемирия остановились рос. войска. 3 марта 1878 г. там был подписан мирный договор, давший полную независимость от тур. владычества Черногории, Сербии и Румынии и фактическую автономию Болгарии, а также укреплявший позиции России на Кавказе.]. В детстве меня пугали русскими. Я впитал в себя чувство отвращения и опасения, которые испытывала моя голубая мать. С годами зачатки ненависти росли во мне быстрей меня самого, а вы видите, что я сам здорово вырос. Я провёл детство в городе, где каждый час ждали русских, где ничем нельзя было заняться, ничего предпринять надолго, так как завтра, может, придётся бежать в Азию. В течение тридцати лет, с тех пор как моя кормилица мне впервые сказала: завтра приедет русский, я ждал с ненавистью этого момента. И когда настала война, моя ненависть была настолько велика к России, что ни казачьи зверства, ни поджоги, ни лишения в плену решительно ничего не могли к ней прибавить. И пусть нас разбили под Сарыкамышем и в долине под Каракёем и на побережье, моя, наша ненависть победила. Русский не вошёл и теперь больше никогда не войдёт в Константинополь, так как Россия умерла.
Вас удивляет, что я нахожусь с начала войны в плену, а в Гюрджии вы видели моего двойника, но ещё больше, что я так хорошо говорю по-русски. Я не читал грамматик, не перелистывал словарей, так как не мог их достать, мною руководила ненависть, а она способна на чудеса.
И хотя Россия в прошлом, моя ненависть ещё не исчерпана, – почти закричал турок, – она ещё цветёт, ещё совершит и не такие дела! – И крик одобрения калек приветствовал этот оборот речи.
– Обернитесь, не бойтесь, – кричал турок на Ильязда, – посмотрите на остатки людей, нагромождённые на этой палубе. (Но Ильязд продолжал смотреть за борт и не повернулся.) Скажите, что помогло им дожить до сегодняшнего дня? Ответствуйте, каким образом жив ещё этот слепой, у которого на лице нет верхней челюсти? Или тот, у которого половина лица снесена шашкой? Или те, у которых вместо [кожи] одни кости, так как кожа давно отвалилась, у которых нет даже тряпок, чтобы скрыть это? Что позволило им перенести лишения, расстрелы и боль, выползти из пожаров, если не ненависть? Вы слышите, они говорят, что я прав. Только ненависть заставляет их жить ещё и не покончить жалкое это существование. И вы услышите ещё о них, как услышите обо мне, так как роль наша ещё далеко не сыграна!
А вы ещё недостаточно нагнулись над вашей любовью, покройте её, защитите её, берегите её, нам она не на что. Вы любите Турцию, вы распинались за неё в журналах, посылали в занятые области кукурузу. Простите меня, но нам она не нужна, ваша любовь. Нас немало любили в Европе. А к чему повело это? С каким хлебом есть её, любовь, дайте нам ненависти, ещё ненависти.
Он снова сел, поджав под себя ноги, эластичность которых показывала, что эта поза ему близка с юности, и недовольный впечатлением, произведённым его неожиданным выпадом после дня спокойных рассказов, и желая завершить долгую работу дня.
– Скажите мне лучше не о любви, а о том, что вами тоже руководила ненависть. Что из-за ненависти к вашей отчизне, в пределах которой вы имели несчастье родиться и пороки которой вам были слишком очевидны, постыдное существование которой вам было не по силам, что ваше бессилие перестать быть русским и возникшая, пришедшая вам на помощь ненависть заставили вас стать пораженцем, проповедовать распад России и возврат её в состояние скромного ледовитого государства, что эта же ненависть заставила вас якшаться со всеми сепаратистами, изменниками и патриотами охранных народностей, и теперь, наконец, когда вы видите, что Россия не так-то быстро кончается, заставляет вас бежать прочь.
Проверьте себя, и вы убедитесь, что я прав. И если ваша ненависть действительно так прочна, как имею основания предполагать, то я вас уверяю, что мы гораздо более нуждаемся в лицах, Россию ненавидящих, чем в тех, кто нас любит.
Но тут провокация была настолько очевидной, что Ильязд не выдержал.
– Я вам не хочу отвечать в таком же выспреннем тоне. Но поверьте, мной движет вовсе не ненависть и даже не любовь, что за громкое слово, а увлечение. Я, быть может, и ненавижу отчизну, и это меня от неё, несомненно, отталкивает, вот и всё. Впрочем, и тут слово «ненависть» чересчур звонко. Что же касается до всех тех поступков, о которых я вам рассказал при знакомстве как о правах на благородство, это одни увлечения, и только. Если из них ничего не вышло, то, во-первых, потому, что я пустоцвет, во-вторых, поверхностный человек и, в-третьих, хочу оставаться и пустоцветом, и поверхностным человеком, потому что вы сами сказали, что всё на свете неважно, потому что надо жить, вот и всё, жить несмотря ни на что, ни на войну, ни на революцию, ни на крушение Гюрджии и падение Константинополя, и только желание жить несмотря ни на что сберегло ваших товарищей, а вовсе не та ненависть, о которой вы говорите как о силе, но которая едва ли совершит чудеса. В особенности если за ней нет любви к отечеству, если она результат страха, досады и бессилия.
– И потом, милый друг, – закончил Ильязд, пытаясь быть снисходительным, – если вы так уж присмотрелись к действительности, вас окружавшей, как я не смог в Турции, как вы ещё можете пользоваться этой доисторической бутафорией и меня самого подбивать на подобные разговоры? Отечество, Россия, Турция. Или вы не знаете, что ничего этого нет, что это есть пустые идеи, чему соответствующие – юридическим единицам. Вы, видевший Гражданскую войну, как отцы расстреливали детей и дети вздёргивали родителей, где одна народность истребляла другую только потому, что каждая представляла ту или иную сторону, вы, знающий теперь не хуже любого мальчишки в России, что государство есть орудие насилия одной его части над другой, и что когда пройдёт пора насилия, не будет больше государств, что любовь к отечеству есть самое лицемерное оправдание этого насилия, как вы можете говорить со мной серьёзно о подобных вещах?
Ваш ответ только ещё раз доказывает, что ваша неприязнь к России действительно не так велика, и что вы всё-таки русский, тогда как я турок.
Ваша ненависть к России должна быть ненавистью к правящему в России классу, которого больше нет. Вы же знаете, если не знаете, то я могу вам указать, что революция в России наиболее ярко выразилась во внешней политике (2 мая), когда Временное правительство потерпело кризис из желания настаивать на вопросе о проливах[40 - Весной 1915 г. между Россией и союзными державами было заключено тайное соглашение о разделе Османской империи в случае их победы в Первой мировой войне. России по этому соглашению отдавались Константинополь и проливы Босфор и Дарданеллы – при условии, что она добьётся полного поражения Германии. В апреле 1917 г., после революции в России, в газетах была опубл. обращённая к союзникам нота министра иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюкова, подтверждающая намерение России вести войну до победного конца и её претензии на проливы и Константинополь. После массовых антивоенных демонстраций Милюков 2 мая подал в отставку. Хотя Германия и её союзники считались в войне проигравшими, в результате переворота октября 1917 г. и выхода России из войны все её прежние договорённости с Англией и Францией были аннулированы.]. Следовательно, вопрос теперь исчерпан.
– О, эфенди[41 - «Эфенди» («господин», тур.) – форма вежливого обращения. Используемые в романе далее «ага» и «бей» – добавления к имени для выражения почтения, формы обращения к старшему по статусу или возрасту.], вы просто упрямы, – вдруг развеселился турок, – это великолепное качество. Но нам ещё предстоит несколько дней пути, и мы успеем ещё поговорить на эту тему.
Между тем ночь уже наступила, и пароход, подойдя к берегу, бросил якорь в виду берега, присутствие которого обнаруживали несколько огоньков. Надо было думать о еде, и Ильязд, тщетно попытавшийся несколько раз пробиться из своего угла к машинному отделению и не сумевший этого сделать, так как у него не хватило духа шагать по лежавшим на палубе калекам, как это спокойно делали матросы (и при этом никто не протестовал), принуждён был искать заступничества у верзилы, настроение которого заметно улучшалось, и который, прекратив спор, остался таким же оживлённым и не впал в дневное оцепенение. Верзила приказал какому-то безносому сползать за кипятком, за что тот и был принят в сообщество, и вскоре верзила, Ильязд и безносый принялись за чай, сахар и сухари Ильязда. А так как и [у] близлежащих было немало охоты тоже попробовать чаю и сухарей, то через несколько минут запасы Ильязда, которых должно было ему хватить до Константинополя, растаяли.
Ночь простояли в полнейшем мраке, и на пароходе, кроме положенных, не было никаких огней. Ильязд решил, что это вполне естественно, так как если можно [на]пичкать судно до такой степени больными и калеками, то нечего заботиться об освещении этого груза. И готовился уже уснуть, когда ему стало сдаваться, что вокруг парохода какое-то движение, словно удары вёсел. «Что происходит? – подумал он. – И почему это стояние у берега? Какой национальности этот пароход, плывущий под французским флагом, на котором не видно ни одного француза? Не вероятнее, что это тут все турки, что флаг – для отвода глаз, и что это плавание вдоль азиатского берега неспроста, так как если этих калек везут в Константинополь? Грузят судно или выгружают? Грузят. В таком случае – оружием. И повезло же мне попасть на этот зачумлённый пароход да ещё быть свидетелем всего этого, единственным посторонним среди всех своих». И воспользовавшись темнотой, Ильязд немедленно покинул свой угол и поверх спящих и бодрствующих перелез в самый дальний угол палубы.
Там он просидел ночь, не помышляя о сне, прислушиваясь и то уверяя себя, что что-то происходит, то, наоборот, уверяя, что ему только кажется и всё кругом спит. И остывшее было внимание к Белобрысому раскалилось в нём вновь.
Не пытается ли Белобрысый вовлечь его в какое предприятие, предполагая его использовать для каких-то сомнительных дел? И что это за предприятие, в котором он найдёт применение своей ненависти? Нет, несомненно, этот человек что-нибудь да значит. И во всяком случае несомненно, что он не просто солдат, каким хочет казаться. Слишком стратегический склад ума. И потом авторитет. Одной наружностью этого не объяснить. Не правильнее вместо всех этих россказней предположить, что он попросту офицер, живший в России до войны, бывший атташе посольства, быть может, и тогда и выучившийся говорить по-русски? И потом, россказни, быть может, правдивы, но о многом умолчано? И не было разумнее делать вид, что поддаёшься на его удочку, а то отправит через борт немедленно и никто не заметит?
И не лучше бежать с парохода? Завтра мы должны быть в Трапезунде. И Ильязд решил наутро сойти во что бы то ни стало на берег.
Ночь прошла много скорее, чем следовало ожидать, из-под брезента, под которым укрылся Ильязд, можно было видеть, что на палубе начинают быть различимыми сперва тела, а потом и клейма[42 - Вариант (вместо «и клейма»): позол[от]ило их солнце.], и тогда Ильязд покинул ночной приют. Но, к его изумлению, оказалось, что они стоят не где-нибудь в море, а против самого Трапезунда.
Великолепный всегда, он на этот раз был великолепней великолепного. Утренней позолоченный позолотой, нежился под начинающим голубеть небом. Гора и вкраплённый в неё монастырь были лиловой и перламутровым не менее, чем твердь и плывущая там луна на ущербе, и линия, почву от свода отделяющая, шла соответственно линии береговой так себе, вот тут, мол, земля, здесь воздух, внизу влага, а в действительности не было ни горы, ни неба, ни моря, а один только епископский бархат, и на нём кружева туманом, архитектура, сложенная из каких кто знает драгоценных материалов, и хрустальные паруса, в середине белоснежный собор (Святого) Евгения, чуждый суровости и свирепости византийской, легчайшая из легчайших[43 - Вариант: игрушечная из игрушечных.] построек игрушечной империи, чайки над пристанью и стада дельфинов окрест…
Ильязд протискался к сходням, подозвал знаками лодку, управляемую гордо носившим чалму мальчишкой-лазом, съехал, дивясь по дороге, что его никто не заметил, что столько медуз подогнала сюда осень и что на пристани не спрашивают паспортов, устремился по подъёму к обсаженной кипарисами площади и далее вдоль базара, пока не вошёл в кофейню и, усевшись, вздохнул с облегчением.
Если его (чемодан) и пропадёт, неважно, ничего там, кроме исписанных бумаг и поношенного белья, нет, но он избавился от настоящей опасности и от этого кошмарного парохода, дождётся следующего под предлогом, что опоздал, и поедет дальше. И только когда он всё это обсудил, то сообразил, что вот она, заветная минута, что [он] уже за границей, на чужом берегу, что день этот, великий и радостный, скорее настал, чем можно было предполагать, что он на воле и в любимейшей Турции, поблизости от знакомых ему стран. И вспомнив, что теперь не время пить кофе, он заказал чаю, посидел на балконе, упиваясь великолепным своим расположением духа, отправился бродить по базару, осмотрел все виды торговцев фальшивыми монетами, затем перебрался в крепость, спустился в овраг, обошёл старинную стену в поисках распростёртых на ней двуглавых орлов, сельджукских этих, выбрался, вернулся, превосходнейшим образом позавтракал, наелся рубленой баранины, посыпанной барбарисом и приправленной гранатовым соком, пьяный от счастья, покурил, подремал, снова пустился в путь, пересёк крепость, за ней кладбище и вдоль берега направился к белевшей вдали на берегу Святой Софии. Там нашёл во дворе нескольких пастухов с козами, достал сыру и молока, растянувшись на травах, беседовал с ними о преимуществах дальних к Качкару пастбищ перед ближними, осмотрел церковь, достал по старой памяти карандаш и бумагу и за отсутствием рулетки снял поясом несколько размеров и хотел было вернуться в город, чтобы найти гостиницу, когда вовнутрь мечети ввалился огромный полицейский в форме, в котором Ильязд узнал немедленно Белобрысого, и, подойдя, спросил почтительно:
– Вы, кажется, сошли с парохода и, по-видимому, хотите остаться в Трапезунде. Но есть ли у вас виза?
Ильязд пришёл в гнев и стал кричать на полицейского:
– Что вам от меня надо, чего вы меня преследуете, я еду в Константинополь, но не хочу путешествовать с вами вместе!
Но улыбающийся и не терявший спокойствия полицейский, подняв руку ладонью к нему, произнёс:
– Виза, есть ли у вас виза, если нет, то торопитесь, пароход скоро уходит, мы не можем вам позволить остаться в Трапезунде, – и когда Ильязд снова разразился криками:
– Вы же понимаете, что вы должны подчиниться!
– А если не подчинюсь, арестуете? И арестуйте, сажайте в тюрьму.
– Нет, у нас нет оснований сажать вас в тюрьму, эфенди, – отвечал тот ещё более любезно, – мы вас насильно отвезём на пароход.
– Слушайте, Белобрысый, – вдруг вспомнил Ильязд, – что это за маскарад и что вам от меня надо?
– Эфенди, вероятно, ошибается, принимая меня за кого-то, я только полицейский.
Но Ильязд замахал рукой, крича:
– Вы воображаете, что я вас боюсь, мне с вами только скучно, понимаете, скучно, а я не собираюсь скучать! – и зашагал по городу, пытаясь не отставать от огромного бородача.
На пароходе он нашёл всё на своих местах. Белобрысый появился пятью минутами позже, приплыл в лодке в своём обычном виде.
– Простите меня, – сказал он, добираясь до Ильязда, – что я заставил вас вернуться на пароход. Но если я потерял целый час на поиски в участках формы, которая мне была бы по росту, и весь день на то, чтобы вас найти (впрочем, я с самого начала знал, что ваше пристрастие к архитектуре вас погубит), то всё это не потому, что я вам желаю зла. Поверьте, вам нечего опасаться на этом пароходе и напрасно вы бежали сперва этой ночью, а потом этим утром. Вы у нас в гостях, так случилось, и мы блюдём законы гостеприимства. Потом, мы грузили ночью оружие, и вы могли об этом догадаться. Но что же из того, что вы это знаете? Вы же не пойдёте на нас доносить ни здесь, ни в Константинополе. Вам с вашей любовью, нет, как вы говорите, с вашим увлечением приключениями, вам уже теперь лестно, что вы посвящены в тайну поставки оружия, и вы эту тайну будете хранить лучше всех.
Ильязд не мог удержаться от веселья.
– Нет, я не прав, Белобрысый, с вами вовсе не так скучно. Но что вам от меня надо в конце концов?
– Окончить прерванную вчера беседу.
– Отлично, вы победитель, продолжайте.
– Я вовсе не тороплюсь, у нас достаточно времени до Константинополя, пока же вы можете отдохнуть и полюбоваться видом.
Он говорил, как говорят с приговорёнными. Но Ильязд действительно развеселился. После кошмарного сидения на корточках, вони и давки целые сутки прогулка по Трапезунду подействовала на него обновляюще. Ему теперь это судно калек казалось менее ужасающим и совсем не безысходным.
– Мы вернёмся к прерванной беседе завтра, – продолжал Алемдар. – Поговорим пока о другом. Обратите внимание на эти затопленные транспорты, налево. Это дело рук вашей армии (он произнёс «вашей» с ударением). И видите эти погорелые кварталы, это тоже их дело, к счастью, горели обыкновенные жилые дома, а не кварталы развалин, иначе вам решительно нечего было бы осматривать. Разгром, которому ваши войска («ваши» с ударением) подвергли Трапезунд, превосходил по нелепости и хищничеству всё, что видела война. Я много о нём слышал, возвращаясь из плена, и сегодня, при посещении участков. Я бы с удовольствием остался тут с вами до следующего парохода, но, к сожалению, нас ждут в Константинополе.
– Меня никто не ждёт.
– Не вас, а нас, бывших пленных. Впрочем, не будьте столь разочарованы. Я думаю, что вас кто-нибудь и во всяком случае что-нибудь ожидает.
Но Ильязд уже так свыкся с этой вызывающей болтовнёй, что не обращал внимания. Он смотрел, облокотившись на борт, как мутнели сумерки, не отнимая, однако, никакой ясности у крепости, холмов и предгорий. Он думал о стране, скрывающейся позади этой панорамы, которая была где-то близкой и невидимой и, однако, почти ощутимой, осязаемой, присутствующей. Ещё раз он испытывал очарование этой земли, этого уголка земли, коего Трапезунд был крайним завершением, и убеждался в нетленности уз, связывавших его с этим чужим ему краем. И по мере того как белоснежные постройки начинали сливаться, уходили опять членораздельные чувства, желания, мысли, чтобы слиться в одно состояние покоя, колыбельного сна. Удары пароходного винта, призрак Софийской церкви, мелочи пережитого дня, потерявшие всякую выпуклость, проваливающаяся в море земля и повсюду одно и то же неумолимое и умиротворяющее, усыпляющее ночное величество.
Сон Ильязда был, должно быть, достаточно крепким, так как когда он наконец проснулся, немедленно вернувшись к пережитому дню, о котором он продолжал рассуждать во сне, день уже давно наступил. Алемдар занимал то же место, что накануне, поглощённый чтением какой-то, видимо, добытой им накануне книги. Книгой этой он был увлечён до такой степени, что удостоил Ильязда быстрым кивком и более не обращал на него внимания.
Так половина нового дня прошла в скуке и пустоте. Ни море, ни искалеченные не занимали. Ильязд ждал возобновления прерванного разговора, но Алемдар точно забыл о своём намерении. Поэтому когда ждать стало невтерпёж, Ильязд, воспользовавшись тем, что Алемдар приступил к курению добытых им накануне в городе папирос, обратился к нему с откровенным заявлением, что, мол, ждёт обещанной беседы, ожидая на турецком лице признаков самодовольства. Но Алемдар – подлинная восточная лиса – посмотрел на него вопросительно, как будто удивлённый тому, что ему напоминают о чём-то, чего он не помнит сам, а потом добавил:
– Я постараюсь вспомнить, о чём я хотел говорить с вами.
Вас удивляет, что я нахожусь с начала войны в плену, а в Гюрджии вы видели моего двойника, но ещё больше, что я так хорошо говорю по-русски. Я не читал грамматик, не перелистывал словарей, так как не мог их достать, мною руководила ненависть, а она способна на чудеса.
И хотя Россия в прошлом, моя ненависть ещё не исчерпана, – почти закричал турок, – она ещё цветёт, ещё совершит и не такие дела! – И крик одобрения калек приветствовал этот оборот речи.
– Обернитесь, не бойтесь, – кричал турок на Ильязда, – посмотрите на остатки людей, нагромождённые на этой палубе. (Но Ильязд продолжал смотреть за борт и не повернулся.) Скажите, что помогло им дожить до сегодняшнего дня? Ответствуйте, каким образом жив ещё этот слепой, у которого на лице нет верхней челюсти? Или тот, у которого половина лица снесена шашкой? Или те, у которых вместо [кожи] одни кости, так как кожа давно отвалилась, у которых нет даже тряпок, чтобы скрыть это? Что позволило им перенести лишения, расстрелы и боль, выползти из пожаров, если не ненависть? Вы слышите, они говорят, что я прав. Только ненависть заставляет их жить ещё и не покончить жалкое это существование. И вы услышите ещё о них, как услышите обо мне, так как роль наша ещё далеко не сыграна!
А вы ещё недостаточно нагнулись над вашей любовью, покройте её, защитите её, берегите её, нам она не на что. Вы любите Турцию, вы распинались за неё в журналах, посылали в занятые области кукурузу. Простите меня, но нам она не нужна, ваша любовь. Нас немало любили в Европе. А к чему повело это? С каким хлебом есть её, любовь, дайте нам ненависти, ещё ненависти.
Он снова сел, поджав под себя ноги, эластичность которых показывала, что эта поза ему близка с юности, и недовольный впечатлением, произведённым его неожиданным выпадом после дня спокойных рассказов, и желая завершить долгую работу дня.
– Скажите мне лучше не о любви, а о том, что вами тоже руководила ненависть. Что из-за ненависти к вашей отчизне, в пределах которой вы имели несчастье родиться и пороки которой вам были слишком очевидны, постыдное существование которой вам было не по силам, что ваше бессилие перестать быть русским и возникшая, пришедшая вам на помощь ненависть заставили вас стать пораженцем, проповедовать распад России и возврат её в состояние скромного ледовитого государства, что эта же ненависть заставила вас якшаться со всеми сепаратистами, изменниками и патриотами охранных народностей, и теперь, наконец, когда вы видите, что Россия не так-то быстро кончается, заставляет вас бежать прочь.
Проверьте себя, и вы убедитесь, что я прав. И если ваша ненависть действительно так прочна, как имею основания предполагать, то я вас уверяю, что мы гораздо более нуждаемся в лицах, Россию ненавидящих, чем в тех, кто нас любит.
Но тут провокация была настолько очевидной, что Ильязд не выдержал.
– Я вам не хочу отвечать в таком же выспреннем тоне. Но поверьте, мной движет вовсе не ненависть и даже не любовь, что за громкое слово, а увлечение. Я, быть может, и ненавижу отчизну, и это меня от неё, несомненно, отталкивает, вот и всё. Впрочем, и тут слово «ненависть» чересчур звонко. Что же касается до всех тех поступков, о которых я вам рассказал при знакомстве как о правах на благородство, это одни увлечения, и только. Если из них ничего не вышло, то, во-первых, потому, что я пустоцвет, во-вторых, поверхностный человек и, в-третьих, хочу оставаться и пустоцветом, и поверхностным человеком, потому что вы сами сказали, что всё на свете неважно, потому что надо жить, вот и всё, жить несмотря ни на что, ни на войну, ни на революцию, ни на крушение Гюрджии и падение Константинополя, и только желание жить несмотря ни на что сберегло ваших товарищей, а вовсе не та ненависть, о которой вы говорите как о силе, но которая едва ли совершит чудеса. В особенности если за ней нет любви к отечеству, если она результат страха, досады и бессилия.
– И потом, милый друг, – закончил Ильязд, пытаясь быть снисходительным, – если вы так уж присмотрелись к действительности, вас окружавшей, как я не смог в Турции, как вы ещё можете пользоваться этой доисторической бутафорией и меня самого подбивать на подобные разговоры? Отечество, Россия, Турция. Или вы не знаете, что ничего этого нет, что это есть пустые идеи, чему соответствующие – юридическим единицам. Вы, видевший Гражданскую войну, как отцы расстреливали детей и дети вздёргивали родителей, где одна народность истребляла другую только потому, что каждая представляла ту или иную сторону, вы, знающий теперь не хуже любого мальчишки в России, что государство есть орудие насилия одной его части над другой, и что когда пройдёт пора насилия, не будет больше государств, что любовь к отечеству есть самое лицемерное оправдание этого насилия, как вы можете говорить со мной серьёзно о подобных вещах?
Ваш ответ только ещё раз доказывает, что ваша неприязнь к России действительно не так велика, и что вы всё-таки русский, тогда как я турок.
Ваша ненависть к России должна быть ненавистью к правящему в России классу, которого больше нет. Вы же знаете, если не знаете, то я могу вам указать, что революция в России наиболее ярко выразилась во внешней политике (2 мая), когда Временное правительство потерпело кризис из желания настаивать на вопросе о проливах[40 - Весной 1915 г. между Россией и союзными державами было заключено тайное соглашение о разделе Османской империи в случае их победы в Первой мировой войне. России по этому соглашению отдавались Константинополь и проливы Босфор и Дарданеллы – при условии, что она добьётся полного поражения Германии. В апреле 1917 г., после революции в России, в газетах была опубл. обращённая к союзникам нота министра иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюкова, подтверждающая намерение России вести войну до победного конца и её претензии на проливы и Константинополь. После массовых антивоенных демонстраций Милюков 2 мая подал в отставку. Хотя Германия и её союзники считались в войне проигравшими, в результате переворота октября 1917 г. и выхода России из войны все её прежние договорённости с Англией и Францией были аннулированы.]. Следовательно, вопрос теперь исчерпан.
– О, эфенди[41 - «Эфенди» («господин», тур.) – форма вежливого обращения. Используемые в романе далее «ага» и «бей» – добавления к имени для выражения почтения, формы обращения к старшему по статусу или возрасту.], вы просто упрямы, – вдруг развеселился турок, – это великолепное качество. Но нам ещё предстоит несколько дней пути, и мы успеем ещё поговорить на эту тему.
Между тем ночь уже наступила, и пароход, подойдя к берегу, бросил якорь в виду берега, присутствие которого обнаруживали несколько огоньков. Надо было думать о еде, и Ильязд, тщетно попытавшийся несколько раз пробиться из своего угла к машинному отделению и не сумевший этого сделать, так как у него не хватило духа шагать по лежавшим на палубе калекам, как это спокойно делали матросы (и при этом никто не протестовал), принуждён был искать заступничества у верзилы, настроение которого заметно улучшалось, и который, прекратив спор, остался таким же оживлённым и не впал в дневное оцепенение. Верзила приказал какому-то безносому сползать за кипятком, за что тот и был принят в сообщество, и вскоре верзила, Ильязд и безносый принялись за чай, сахар и сухари Ильязда. А так как и [у] близлежащих было немало охоты тоже попробовать чаю и сухарей, то через несколько минут запасы Ильязда, которых должно было ему хватить до Константинополя, растаяли.
Ночь простояли в полнейшем мраке, и на пароходе, кроме положенных, не было никаких огней. Ильязд решил, что это вполне естественно, так как если можно [на]пичкать судно до такой степени больными и калеками, то нечего заботиться об освещении этого груза. И готовился уже уснуть, когда ему стало сдаваться, что вокруг парохода какое-то движение, словно удары вёсел. «Что происходит? – подумал он. – И почему это стояние у берега? Какой национальности этот пароход, плывущий под французским флагом, на котором не видно ни одного француза? Не вероятнее, что это тут все турки, что флаг – для отвода глаз, и что это плавание вдоль азиатского берега неспроста, так как если этих калек везут в Константинополь? Грузят судно или выгружают? Грузят. В таком случае – оружием. И повезло же мне попасть на этот зачумлённый пароход да ещё быть свидетелем всего этого, единственным посторонним среди всех своих». И воспользовавшись темнотой, Ильязд немедленно покинул свой угол и поверх спящих и бодрствующих перелез в самый дальний угол палубы.
Там он просидел ночь, не помышляя о сне, прислушиваясь и то уверяя себя, что что-то происходит, то, наоборот, уверяя, что ему только кажется и всё кругом спит. И остывшее было внимание к Белобрысому раскалилось в нём вновь.
Не пытается ли Белобрысый вовлечь его в какое предприятие, предполагая его использовать для каких-то сомнительных дел? И что это за предприятие, в котором он найдёт применение своей ненависти? Нет, несомненно, этот человек что-нибудь да значит. И во всяком случае несомненно, что он не просто солдат, каким хочет казаться. Слишком стратегический склад ума. И потом авторитет. Одной наружностью этого не объяснить. Не правильнее вместо всех этих россказней предположить, что он попросту офицер, живший в России до войны, бывший атташе посольства, быть может, и тогда и выучившийся говорить по-русски? И потом, россказни, быть может, правдивы, но о многом умолчано? И не было разумнее делать вид, что поддаёшься на его удочку, а то отправит через борт немедленно и никто не заметит?
И не лучше бежать с парохода? Завтра мы должны быть в Трапезунде. И Ильязд решил наутро сойти во что бы то ни стало на берег.
Ночь прошла много скорее, чем следовало ожидать, из-под брезента, под которым укрылся Ильязд, можно было видеть, что на палубе начинают быть различимыми сперва тела, а потом и клейма[42 - Вариант (вместо «и клейма»): позол[от]ило их солнце.], и тогда Ильязд покинул ночной приют. Но, к его изумлению, оказалось, что они стоят не где-нибудь в море, а против самого Трапезунда.
Великолепный всегда, он на этот раз был великолепней великолепного. Утренней позолоченный позолотой, нежился под начинающим голубеть небом. Гора и вкраплённый в неё монастырь были лиловой и перламутровым не менее, чем твердь и плывущая там луна на ущербе, и линия, почву от свода отделяющая, шла соответственно линии береговой так себе, вот тут, мол, земля, здесь воздух, внизу влага, а в действительности не было ни горы, ни неба, ни моря, а один только епископский бархат, и на нём кружева туманом, архитектура, сложенная из каких кто знает драгоценных материалов, и хрустальные паруса, в середине белоснежный собор (Святого) Евгения, чуждый суровости и свирепости византийской, легчайшая из легчайших[43 - Вариант: игрушечная из игрушечных.] построек игрушечной империи, чайки над пристанью и стада дельфинов окрест…
Ильязд протискался к сходням, подозвал знаками лодку, управляемую гордо носившим чалму мальчишкой-лазом, съехал, дивясь по дороге, что его никто не заметил, что столько медуз подогнала сюда осень и что на пристани не спрашивают паспортов, устремился по подъёму к обсаженной кипарисами площади и далее вдоль базара, пока не вошёл в кофейню и, усевшись, вздохнул с облегчением.
Если его (чемодан) и пропадёт, неважно, ничего там, кроме исписанных бумаг и поношенного белья, нет, но он избавился от настоящей опасности и от этого кошмарного парохода, дождётся следующего под предлогом, что опоздал, и поедет дальше. И только когда он всё это обсудил, то сообразил, что вот она, заветная минута, что [он] уже за границей, на чужом берегу, что день этот, великий и радостный, скорее настал, чем можно было предполагать, что он на воле и в любимейшей Турции, поблизости от знакомых ему стран. И вспомнив, что теперь не время пить кофе, он заказал чаю, посидел на балконе, упиваясь великолепным своим расположением духа, отправился бродить по базару, осмотрел все виды торговцев фальшивыми монетами, затем перебрался в крепость, спустился в овраг, обошёл старинную стену в поисках распростёртых на ней двуглавых орлов, сельджукских этих, выбрался, вернулся, превосходнейшим образом позавтракал, наелся рубленой баранины, посыпанной барбарисом и приправленной гранатовым соком, пьяный от счастья, покурил, подремал, снова пустился в путь, пересёк крепость, за ней кладбище и вдоль берега направился к белевшей вдали на берегу Святой Софии. Там нашёл во дворе нескольких пастухов с козами, достал сыру и молока, растянувшись на травах, беседовал с ними о преимуществах дальних к Качкару пастбищ перед ближними, осмотрел церковь, достал по старой памяти карандаш и бумагу и за отсутствием рулетки снял поясом несколько размеров и хотел было вернуться в город, чтобы найти гостиницу, когда вовнутрь мечети ввалился огромный полицейский в форме, в котором Ильязд узнал немедленно Белобрысого, и, подойдя, спросил почтительно:
– Вы, кажется, сошли с парохода и, по-видимому, хотите остаться в Трапезунде. Но есть ли у вас виза?
Ильязд пришёл в гнев и стал кричать на полицейского:
– Что вам от меня надо, чего вы меня преследуете, я еду в Константинополь, но не хочу путешествовать с вами вместе!
Но улыбающийся и не терявший спокойствия полицейский, подняв руку ладонью к нему, произнёс:
– Виза, есть ли у вас виза, если нет, то торопитесь, пароход скоро уходит, мы не можем вам позволить остаться в Трапезунде, – и когда Ильязд снова разразился криками:
– Вы же понимаете, что вы должны подчиниться!
– А если не подчинюсь, арестуете? И арестуйте, сажайте в тюрьму.
– Нет, у нас нет оснований сажать вас в тюрьму, эфенди, – отвечал тот ещё более любезно, – мы вас насильно отвезём на пароход.
– Слушайте, Белобрысый, – вдруг вспомнил Ильязд, – что это за маскарад и что вам от меня надо?
– Эфенди, вероятно, ошибается, принимая меня за кого-то, я только полицейский.
Но Ильязд замахал рукой, крича:
– Вы воображаете, что я вас боюсь, мне с вами только скучно, понимаете, скучно, а я не собираюсь скучать! – и зашагал по городу, пытаясь не отставать от огромного бородача.
На пароходе он нашёл всё на своих местах. Белобрысый появился пятью минутами позже, приплыл в лодке в своём обычном виде.
– Простите меня, – сказал он, добираясь до Ильязда, – что я заставил вас вернуться на пароход. Но если я потерял целый час на поиски в участках формы, которая мне была бы по росту, и весь день на то, чтобы вас найти (впрочем, я с самого начала знал, что ваше пристрастие к архитектуре вас погубит), то всё это не потому, что я вам желаю зла. Поверьте, вам нечего опасаться на этом пароходе и напрасно вы бежали сперва этой ночью, а потом этим утром. Вы у нас в гостях, так случилось, и мы блюдём законы гостеприимства. Потом, мы грузили ночью оружие, и вы могли об этом догадаться. Но что же из того, что вы это знаете? Вы же не пойдёте на нас доносить ни здесь, ни в Константинополе. Вам с вашей любовью, нет, как вы говорите, с вашим увлечением приключениями, вам уже теперь лестно, что вы посвящены в тайну поставки оружия, и вы эту тайну будете хранить лучше всех.
Ильязд не мог удержаться от веселья.
– Нет, я не прав, Белобрысый, с вами вовсе не так скучно. Но что вам от меня надо в конце концов?
– Окончить прерванную вчера беседу.
– Отлично, вы победитель, продолжайте.
– Я вовсе не тороплюсь, у нас достаточно времени до Константинополя, пока же вы можете отдохнуть и полюбоваться видом.
Он говорил, как говорят с приговорёнными. Но Ильязд действительно развеселился. После кошмарного сидения на корточках, вони и давки целые сутки прогулка по Трапезунду подействовала на него обновляюще. Ему теперь это судно калек казалось менее ужасающим и совсем не безысходным.
– Мы вернёмся к прерванной беседе завтра, – продолжал Алемдар. – Поговорим пока о другом. Обратите внимание на эти затопленные транспорты, налево. Это дело рук вашей армии (он произнёс «вашей» с ударением). И видите эти погорелые кварталы, это тоже их дело, к счастью, горели обыкновенные жилые дома, а не кварталы развалин, иначе вам решительно нечего было бы осматривать. Разгром, которому ваши войска («ваши» с ударением) подвергли Трапезунд, превосходил по нелепости и хищничеству всё, что видела война. Я много о нём слышал, возвращаясь из плена, и сегодня, при посещении участков. Я бы с удовольствием остался тут с вами до следующего парохода, но, к сожалению, нас ждут в Константинополе.
– Меня никто не ждёт.
– Не вас, а нас, бывших пленных. Впрочем, не будьте столь разочарованы. Я думаю, что вас кто-нибудь и во всяком случае что-нибудь ожидает.
Но Ильязд уже так свыкся с этой вызывающей болтовнёй, что не обращал внимания. Он смотрел, облокотившись на борт, как мутнели сумерки, не отнимая, однако, никакой ясности у крепости, холмов и предгорий. Он думал о стране, скрывающейся позади этой панорамы, которая была где-то близкой и невидимой и, однако, почти ощутимой, осязаемой, присутствующей. Ещё раз он испытывал очарование этой земли, этого уголка земли, коего Трапезунд был крайним завершением, и убеждался в нетленности уз, связывавших его с этим чужим ему краем. И по мере того как белоснежные постройки начинали сливаться, уходили опять членораздельные чувства, желания, мысли, чтобы слиться в одно состояние покоя, колыбельного сна. Удары пароходного винта, призрак Софийской церкви, мелочи пережитого дня, потерявшие всякую выпуклость, проваливающаяся в море земля и повсюду одно и то же неумолимое и умиротворяющее, усыпляющее ночное величество.
Сон Ильязда был, должно быть, достаточно крепким, так как когда он наконец проснулся, немедленно вернувшись к пережитому дню, о котором он продолжал рассуждать во сне, день уже давно наступил. Алемдар занимал то же место, что накануне, поглощённый чтением какой-то, видимо, добытой им накануне книги. Книгой этой он был увлечён до такой степени, что удостоил Ильязда быстрым кивком и более не обращал на него внимания.
Так половина нового дня прошла в скуке и пустоте. Ни море, ни искалеченные не занимали. Ильязд ждал возобновления прерванного разговора, но Алемдар точно забыл о своём намерении. Поэтому когда ждать стало невтерпёж, Ильязд, воспользовавшись тем, что Алемдар приступил к курению добытых им накануне в городе папирос, обратился к нему с откровенным заявлением, что, мол, ждёт обещанной беседы, ожидая на турецком лице признаков самодовольства. Но Алемдар – подлинная восточная лиса – посмотрел на него вопросительно, как будто удивлённый тому, что ему напоминают о чём-то, чего он не помнит сам, а потом добавил:
– Я постараюсь вспомнить, о чём я хотел говорить с вами.