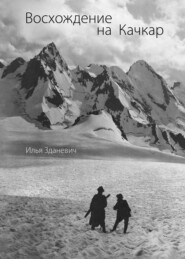По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако поскольку всякая духовная письменность отлична от светской, постольку можно было предполагать заранее, что правила, которыми руководствовались в шахских садах шахские садовники-дервиши, были иными, чем письменность дервишей-садовников. И потом, пространно объяснял Шереф Ильязду, принцип какой бы то ни было духовной письменности, духовной деятельности, словом, всего относящегося к духовному – затемнение, концы в воду, и притом в воду мутную, морочение головы, словом, желание сделать предмет возможно менее доступным черни, чтобы продолжать её обкрадывать и жиреть, ничего не делая. Следовательно, понять без ключа духовную письменность невозможно. И действительно, если бы вы только знали, какую ахинею не разводили на своих полях дервиши-цветочники! А между тем принцесса должна была понять букет (или ботанизированное собрание цветов) без труда, следовательно, письменность должна была быть общедоступной по принципу, легкоусвояемой (никакого мошенничества), то есть светской. Но что может быть безалабернее литераторов светских (впрочем, то же надо сказать и о художниках, и о музыкантах, и о строителях). Полнейший произвол, никакого канона, каждый валяет, что ему вздумается и как ему вздумается. Результат, запах, слово весьма уместное, немедленно пропадает, и не знаешь, что же этот несчастный хотел выразить, загибая такую фразу.
– Когда я пришёл к убеждению, что букет Шеро был произведением литературы светской, я потерял было надежду дожить до окончания своего труда. Пришлось начать всё сначала, во-первых, составить перечень всех цветов, произрастающих в Персии, и таких, которые могут в ней произрастать в шахском парке, как на воздухе, так и в теплицах и в холодильниках, затем собрать подробнейшие сведения о качествах каждого – цвет, запах, рисунок, поведение, вкус, особые свойства, например, ядовитость и так далее, изучить воздействие каждого на чувства созревшей и томящейся по жениху девушки – влияние цвета, возбуждающее значение красного, успокаивающее или выводящее из себя неуместной моралью белого, влияние запахов пьянящих, сладких, так называемых дурманящих или, наоборот, едких, кислых и зловонных, наконец, ассоциации по форме, в особенности изучение цветов, напоминающих губы, язык или половые органы, особая выразительность цветов, закрывающихся и открывающихся от света (надо предполагать, что если цветы были живыми, то принцесса достала их из ящика и тем самым перенесла их из темноты на свет). Вы понимаете, какая огромная это работа. И как далёк должен был быть простой язык принца от замысловатых духовных грядок, тем более что цветы гораздо больше подходят для игривых текстов, чем для текстов духовных…
Однако Шереф, превосходно владевший языками восточными, из западных не знал ни одного, кроме обязательного французского[63 - В светских тур. школах преподавались перс. и араб. языки, а основным средством общения с европейцами был фр. язык.], а между тем знание латыни было необходимо для правильного ведения этой работы. Обязанности латиниста и должен был выполнять Ильязд. Он должен был рыться в произведениях средневековых авторов и современных ботанистов и зоологов, переводить латинские названия цветов, перечитывать первоисточники их описаний и тому подобное. Шереф каждый день приволакивал новую литературу, которая складывалась под скамейкой, а по прочтении уносилась обратно. И не мог не признать, что благодаря Ильязду работа его двинулась решительным шагом вперёд, и что он заслужил свой чай и хлеб, которые он получал за счёт Шерефа.
Но одним хлебом и чаем долго не проживёшь. Ильязд не прочь был бы получить ещё работу. Когда стало очевидно, что он на что-нибудь годен, Шоколад-ага заявил однажды, что такой человек как Ильязд будет ему крайне нужен для некоторых работ в султанской библиотеке, работ, которые начнутся только через некоторое время, но что он берёт Ильязда на службу теперь же и требует поэтому, чтобы тот уделял ему положенное время, поддерживая с ним беседу, каковая явится как бы подготовительной стадией для будущих дел латиниста. И хотя Шереф в этом увидел пустой каприз и желание отнять у него необходимого работника, однако должен был с новым положением вещей согласиться, и Ильязд после занятий с ним менял место и подсаживался к Шоколад-аге.
Разговоры Шоколад-аги были до утомительного однообразны. Нет ничего удивительного поэтому, что никто не хотел его слушать, и ему за деньги пришлось искать слушателя, да и нашёл он его в лице Ильязда (библиотечная работа была, разумеется, предлогом), а ни один из турок не пожелал выполнять за гроши подобной роли. Речь только и шла о прелестях бывшего гарема и вообще о прелестях дворцовой жизни до переворота и до войны[64 - Султанский гарем просуществовал до 1909 г., когда был низложен султан Абдул-Хамид II, правивший с 1876 г.]. И если бы Шоколад ограничивался бранью по адресу младотурок, с ним можно было бы спорить. Если бы он рассказывал о прелестях женских, которые он видел, о подробностях любовной жизни Абдула Гамида, об однополой любви между женщинами гарема, о чём он знал, вероятно, более чем достаточно, он бы не только заставил себя слушать, но, какое может быть сомнение, значительно увеличил бы клиентуру Чауша. Нет, когда Шоколад говорил о прелестях, он думал вовсе не о женских прелестях, а об этикете, о величественном церемониале Ворот Благоденствия, столь поколебленном и даже окончательно разрушенном новыми временами[65 - Ворота Благоденствия, или Ворота Счастья (Bab-?s-Saadet) – охраняемые толпой «белых» евнухов третьи ворота дворца Топкапы, «торжественные ворота святилища царя царей», за которыми находилась резиденция султанов.]. Нет, поймите как следует. Во времена Шоколада, когда он сам был одним из ближайших евнухов и шутом одной из кадин[66 - В гаремной иерархии – одна из фавориток из числа наложниц султана.], которая умерла после от горя, обязанности главной казначейши исполнялись такой-то. Понимаете, каков был ритуал его выходов. Или… разговаривать с кормилицей султана нужно было не иначе как так. Надо было опускать голову и начинать со слов. Удаляться из покоев, пятясь, нужно было после беседы с такими-то женщинами, а после беседы с другими можно было просто удаляться. Положение так называемых на виду предопределялось тем-то, положение супруг так-то. Но если бы хотя одно имя, хотя бы одно слово о благоденствии, а то говорящий кодекс и только. Правда, бывали живописные подробности. Удостаиваемая султаном внимания должна была не ложиться в постель, как практикуют теперь по гнилому европейскому обычаю, а влезать под одеяло, начиная с ног постели, так как любовь начинается с подошв[67 - Ср. со словами из докл. И. Зданевича «Поклонение башмаку», прочитанного 15 апреля 1914 г. в «Бродячей собаке»: «Ноги страж и одновременно корни. Вот почему любовь так любит ноги как самое близкое в земле, вот почему любовь, по словам Паллады, начинается с подошв», см.: Зданевич И. Футуризм и всёчество. 1912–1914: В 2 т. / Сост., подг. текстов и коммент. Е.В. Баснер, А.В. Крусанова и Г.А. Марушиной; общ. ред. А.В. Крусанова. Т. 1. М.: Гилея, 2014. С. 174–175. Паллада – поэтесса Паллада Олимпиевна Богданова-Бельская (1885–1968), в гостях у которой был написан этот докл.]. Но таких перлов было так мало, и Шоколад-ага, несмотря на всю весёлую внешность, излагал их таким замогильным голосом, что даже Ильязд, при всём своём любопытстве к вещам ничего не стоящим, скучал, заучивая наизусть организацию бывшего султанского гарема, который уже, по словам Шоколада, не существовал, так как теперешний султан в Долма Багче[68 - Речь идёт о последнем тур. султане Мехмеде VI, который правил в период развала государства (1918–1922) и был, по сути, изолирован в своём дворце Долма Багче (Долмабахче) на берегу Босфора.] – не султан, а одно недоразумение, чему самый факт присутствия Шоколада в кофейне достаточное подтверждение. Когда же Ильязд спрашивал[69 - Вариант: однажды спросил.] Шоколада, в какой мере это изучение кодексов султанского гарема может явиться подготовкой к будущим библиотечным работам, Шоколад раздражённо отвечал, что Ильязд всё-таки глупее, чем можно было ожидать, и не отличается ничем от всех этих болванов Чауша, Чени и Шерефа с его идиотскими букетами, так как если бы был умён, то понял, что разговоры о гареме – это так себе, предлог, всё равно, что изучать, но Шоколад проверял память Ильязда, способность его к удержанию в голове сухих положений, так как работа будущая возможна будет только в том случае, если Ильязд обнаружит способность к увлечению мёртвыми вещами.
– Ты был достаточно умён, не спросив меня ни разу о женских прелестях, так как я нарочно выбираю такой соблазнительный предмет бесед, но этого мало, и в тот день, когда ты сможешь без ошибки мне изложить все детали организации гарема, мы пойдём в библиотеку. Только берегись, если я узнаю, что ты что-нибудь из разговоров записываешь.
Хаджи-Баба был последним, заявившим о желании пользоваться услугами Ильязда. Однажды вечером, перед сном, когда Ильязд, проводив Бабу на чердак, готовился обыкновенно немедленно сойти и отправиться на продолжение своих обязательных ночных путешествий, Хаджи-Баба, усевшись на зеркало, остановил Ильязда и сказал:
– Моя работа не представляет никаких затруднений. Завтра ты отправишься на ту сторону в поганые кварталы[70 - Хаджи-Баба так говорит о константиноп. районах Галата и Пера, расположенных на севере от бухты Золотой Рог и населённых тогда преимущественно греками, армянами и др. христианами-европейцами (а к тому моменту и рус. беженцами). В период союзнической оккупации районы были под контролем Великобритании.], чтобы принести то, чего нельзя найти здесь и что ни один мусульманин не может принести, так как ни один порядочный мусульманин не переходит на ту сторону, и я, стараясь держаться честных правил, ни разу там не был за свою долгую жизнь, словом, будь готов отправиться завтра с утра, я тебе завтра же объясню, в чём дело, – отвернулся и принялся за свои бормотания.
Ночной пир был наиболее важной частью суточного круга Ильязда. Ибо ночь, которая никогда не была его привязанностью, а в возрасте зрелом постоянные передвижения вынудили её даже остерегаться за отвратительную способность нарушать установленные днём отношения между вещами, калечить предметы, нагружая их внутренним и лишая внешнего, и за её бесцеремонные отношения со временем, долгое делая мимолётным и незначительное ожидание невыносимым, сделал[ась] теперь его главным другом. Он выходил на Дворцовую площадь, направляясь к фонтану. Журчание вселяло в него уверенность, так как он не чувствовал себя одиноким. Он более не прозябал, заблудившийся неудачник, не коротал время за детскими играми, а жил, подобно окружавшему его зодчеству, медленно испепеляя в себе неисповедимые богатства. В тишине, ещё более густой от непрерывного журчания, он руками и дыханием гладил и согревал остуженный осенью мрамор. Отсюда, будто воздушный, шар Софии был виден весь, достаточно далёкий, чтобы мелочи могли превозмочь идею. Ни полумесяца, ни пристроек, примытых веками, формы чистые геометрии, ум ума, забава, возведённая в степень величества. Ильязд пил хрустальную влагу её объемов и, глядя на вечное юное тело, спрашивал себя, кто сказал, что мудрость стара, мудрость – вечная юность. Но по мере того как прислонившись к фонтану, он всё больше всматривался в громаду, подавленный её торжеством, небо начинало светить от приближения полумесяца, в согласие врывался разлад, наконец зажжённый полумесяцем полумесяц [Софии] возвратил Ильязда к действительности. И тогда, торопясь воспользоваться часами уходящей ночи, Ильязд начинал свой дозор, устремляясь к ристалищу.
Какой порок увлекал его, молодого человека и вышедшего из среды, где всё только и жило будущим, убивать своё мужество, распылять свою силу, жажду героизма, борьбы и подвигов созерцанием остатков прошлого и повторять себе, что даже вот это величество ни к чему не привело и всё только суета сует? Почему вместо того чтобы жить, действовать, быть с теми, кого он считал своими, он сидел между двух стульев, скрывшись, запрятавшись, схоронив себя заживо на сей улочке, пользуясь покровом ночи, бежал, фантазёр, мимо мечетей и обелисков, вдоль кипарисов, подымая то и дело руки, жестикулируя, разговаривая с призраками, которых не видел? А потом бежал по узеньким улочкам, и потом под гору к морю, где встречный морской ветер неожиданно бил его по лицу, спотыкался и падал, пока, приблизившись к Малой Софии, не оказывался у полотна железной дороги, среди пустыря, поросшего крапивой, тут садился и плакал?
Ветер, дувший с (Принцевых) островов, затихал, и предутренняя свежесть расстилалась по берегу. Бурьян становился мокрым и пахучим. Созвездия успели так сильно переместиться, что более нельзя было узнать неба. Время от времени то тот, то другой звук, не то всплеск вёсел или падающего в воду тела заглушал шуршание ночи. Начинало ломить в коленях и плече. Хотелось спать. Ильязд вставал и спешил домой.
Участок между ведомством юстиции, мечетью Ахмета и морем, который предстояло ему пересечь на обратном пути, обширная площадь, сперва пологая, а потом круто спускающаяся к морю, был самым отталкивающим пустырём в окрестностях. Опустошённый пожарами и временем, участок этот, где некогда были расположены покои византийских императоров, был в плоской своей части покрыт грудами кирпича, а откос – развалинами дворцов и служб, стены которых то тут, то там высовывались из-под земли, и так до самого моря, где на берегу, разрезанный железной дорогой, один из них ещё возносил величественные колонны и окна. Откос этот теперь служил свалочным местом окрестному населению. Полузасыпанные покои были обращены в ямы, и ветер разносил повсюду подымавшееся над развалинами зловонье[71 - Ильязд набрёл на развалины строений Большого (Священного) дворца визант. императоров, занимавшего ок. 400 тыс. кв. м. В XII в. он был покинут императорами, переехавшими во Влахернский дворец (в др. части старого города, на берегу Золотого Рога), и ко времени осман. завоевания пришёл в полный упадок.].
Наткнувшись в первую ночь на византийский дворец, Ильязд обнаружил, что среди этих груд кирпича и кала ютятся люди. Сперва он подумал, что ошибся. Нет, это было действительно так, некоторые пещеры светились, из других доносился кашель и отрывки разговоров.
Ильязд поведал о своём открытии Хаджи-Бабе.
– Это цыгане, такая у них порода и вид, что только в говне жить и могут, – объяснил тот. – Ступай к Новому Саду[72 - Новый Сад, или Новые Огороды – Ени Багче, место цыган. поселения в западной части города около городских ворот Силукуле.], там немало таких же. Только лучше послушайся меня и не ходи ни туда ни сюда, запачкаешься.
И однако Ильязд отправился перед заходом в кофейню, днём, осмотреть места, по которым проходил ночью. Ямы зияли, пирамиды отбросов возвышались, но никого, по-видимому, не было.
Тогда Ильязд, протянув, снедаемый любопытством, до полуночи, решил, простившись с Хаджи-Бабой и не уделив никакого внимания его предложению, отправиться вместо обычного кругового пути прямо на поле отбросов и выяснить, действительно ли это цыгане. Его ум, склонный к схемам, уже был увлечён этими дикарями как противоречием византийскому зодчеству. Да и можно ли подыскать лучшую обстановку для Софии? София, совершенная мудрость, – в плену у цыган, живущих в клоаках и питающихся чёрт знает чем. Открытие, сделанное накануне, сообщало созерцанию Ильязда чрезвычайную полноту, и ему думалось, что отныне эти дозоры будут обязательны для него в течение всей жизни, будучи для него великим символом: мудрость в начале, клоака в конце. И хотя накануне он вернулся на улицу Величества полный омерзения, дал себе слово никогда больше не приближаться к откосу, сегодня тот же порок гнал его дышать морским ветром, смешанным с запахом отбросов[73 - Вариант: матросов.].
Сегодня Ильязд уже не куксил. Освещённый, обновлённый, он вернулся на места. Сомнений не было. Клоаки были населены. Он слышал кашель, хрип, разговоры, видел сперва одну человеческую тень, которая вылезла из норы, вскарабкалась на соседнюю кучу мусора, покопалась там, вернулась и исчезла. Затем в ночи выросло несколько других, спустившихся по откосу и вошедших в ямы. Ильязд подошёл совсем близко к освещённому зеву, но оступился, и вырвавшиеся у него из-под ног обломки зашумели. Но каково было его изумление, смешанное чёрт знает с чем, когда до него донеслись из глубины отчётливые слова, сказанные по-русски: «Кто идёт?», и на фоне зева показалась тень, одетая в солдатскую шинель и фуражку. Ильязд ничего не ответил, а если бы хотел, то, вероятно, не смог бы. Сжался, припав к отбросам, пока тень не ушла, дополз на четвереньках до площади и потом, не оборачиваясь, бежал до дому.
На следующее утро, не спав всю ночь, Ильязд в самом сумбурном состоянии духа отправился выполнять поручение Хаджи-Бабы. Впервые со времени своего приезда в Стамбул он покидал окрестности Айя Софии. Но подавленный стыдом и досадой, он шёл машинально, решительно ничего не замечая.
Но он перешёл мост, всё вокруг стало таким необычайным, что он поневоле должен был отказаться от самодовления. Маклера в пальто, но без шляп, вышмыгивали из банков, хрюкая, взвизгивая и голося, потрясая в кривых и коротеньких ручках пачками денег, забегали в меняльные лавки, тормошили стоявших за прилавками, врывались в здание биржи, откуда доносились крики и вой, сквозь приоткрытую дверь было видно, как в обширной зале бились и спорили биржевики, покидали биржу всклоченными, помятыми, без галстуков и воротников, и останавливались вдалеке оттуда, чтобы размять ноющие бока и отряхнуться. На витринах лежало золото, золото и золото, как нарочно вываленное напоказ, за прилавками считали золото, разворачивали столбики и рассыпали золото пригоршнями по прилавку. Особая разновидность, наводнив площадь, юлила вокруг прохожих, спрашивая, нет ли желающих продать золото, и вытаскивала из чужих карманов золотые, всучая прохожему засаленные бумажки. И что за галерея человечьей породы была вокруг! Или слишком тощие, или чересчур оплывшие, но первые – не утратившие достоинства, последние – подвижности, вообще маленькие, но иногда даже кукольного роста, с губами в прыщах и язвах от непрерывного облизывания денег, с глазами блестящими, но такими же бесцветными, как деньги, отдающие перхотью и немытыми ногами, с золотыми обручами во рту вместо зубов, с ушами лохматыми и без мочек, перпендикулярными к личикам, с черепами голыми, но зато затылками, поросшими непроницаемой шерстью, с ногами, обязательно выгнутыми, в обуви без каблуков и походкой напоминающие трясогузку, скачущие по площади биржевики напрягали все силы извлечь как можно больше выгоды из стремительного явления, созданного оккупацией, и потели непрерывно. Лира падала.
Столовых, питейных на площади не было. Зато царила кондитерская, и суетившиеся дельцы то и дело забегали в неё, чтобы отведать пирожного, напиться шербету или нажраться халвы. Чудовищные пироги с мясом, облитые маслом и посыпанные сахаром, громоздились в окнах. И золотые рты пожирали несметное количество сластей, тяжёлых и жирных, нисколько не заботясь стереть с губ следы сих пиршеств, напротив, размазывая сироп по лицу, рассыпая крошки по одежде, оставляя куски пирожного в усах и бородах, и так как всё поедалось руками, варенье украшало не только груди и рожи, но и ручки дверей, стены домов и деньги, путешествовавшие по площади. Ильязд не выдержал, вошёл в кондитерскую и стал набивать желудок, краснея от удовольствия[74 - На обороте этого листа рукописи автор написал: «а буржуазия, если бы тебя мож[но] было вытравить без остатка».].
Да или нет? Продолжать жить с евнухами и самому стать таковым или действовать, сражаться, действовать всё равно как, всё равно в чём, но не вянуть так в бездействии, созерцании, снедаемым горечью и разочарованиями. До чего грустной, бесполезной, линючей ему казалась теперь жизнь у Хаджи-Бабы, которую ещё вчера он считал венцом мудрости. Нет, лучше быть биржевым маклером, чем волхвом, бежать, бежать оттуда. И решив выполнить поручение Хаджи и с ним распрощаться и покинуть улочку Величества, Ильязд вышел из кондитерской и отправился дальше, пока не добрался до рыбного базара[75 - Рыбный базар находится в средней части Большой улицы Перы (о ней см. примеч. 58).], где скупил за гроши достаточное количество свиных зубов.
Обратный путь он совершил вдоль Пера[76 - Пера (от греч. «за», «по ту сторону», т. е. «по ту сторону Золотого Рога») – в те времена назв. константиноп. района, находящегося на севере от бухты Золотой Рог (сейчас район называется Beyoglu). Пера – также длинная торговая улица в центре района, располагавшаяся между площадью Таксим и Галатской башней. Её полное назв. – Большая улица Перы (Grand rue de Pera, ныне пешеходная ?stikl?l Caddesi). После революции октября 1917 г. «Перина улица» (так её назвали прибывшие сюда казаки) на несколько лет стала оживлённым местом рус. эмиграции (особенный приток беженцев – из Новороссийска, Крыма, Закавказья – пришёлся на 1919–1921 гг.). На ней и в её окрестностях, а также в районе Галата, открылись рус. магазины, рестораны, конторы, кабаре, игорные и публичные дома (о недовольстве местных жителей, прежде всего женщин, засильем чуждых им нравов, привнесённых огромной массой беженцев, см., в частности: Ипполитов С.С., Недбаевский В.М., Руденцова Ю.И. Три столицы изгнания. Константинополь. Берлин. Париж. Центры зарубежной России 1920-х – 1930-х гг. М.: Спас, 1999. С. 14, 17–19). Там же, неподалёку от посольств Великобритании, Франции, Австрии, Швеции и др., располагалось посольство царской России (ныне Генеральное консульство Российской Федерации).Соседний с Пера торговый район Галата был в XIII в. заселён латинянами (крестоносцами IV похода), а позднее генуэзцами, превратившими его в крепость. Его наиболее известное сооружение – воздвигнутая в XIV в. Галатская башня. Начинающийся ниже неё ступенчатый спуск (Y?ksek Kaldirim Caddesi), тот самый, где шла торговля рос. бумажными деньгами и почтовыми марками, называли Галатской лестницей, или просто Лестницей. Ещё ниже, у самой бухты, – район Karak?y (букв. «Чёрная деревня»).], мимо её пошлейших посольств и витрин, и считал прогулку оконченной, начав спускаться, когда обстановка внезапно изменилась и перед ним оказалась толкучка, через которую трудно было протискаться. Но здесь не было ни греков, ни армян, ни турок – все [были] русскими.
Опять русские. Стоило бежать за моря, дать себе слово никогда не возвращаться и перестать себя считать русским – и натыкаться на них на каждом шагу[77 - На обороте одной из страниц рукописи написано: «Оголтелые пероты Мракобесие Стыдно быть русским».]. Ильязд хотел было свернуть в боковую улицу, но на этот раз зрелище настолько задело его, что он не только не свернул с дороги, но торопливо вошёл в толпу. Это были всё одни и те же солдаты, переутомлённые бесконечными войнами, в одеждах, окончательно изношенных, с глазами мертвецкими, не люди, а тени, те, что вымерли тогда в море и стояли теперь прозрачные и бесплотные. Сотней шагов ниже, в Галате, стоял невообразимый шум, здесь не разговаривали даже, а нашёптывали, точно сама речь стала невыносимым трудом для загнанных сих людей, некоторые стояли, прислонившись и опустив веки, и было очевидно, что не могут двинуться от усталости. Другие, предлагая товар, даже не шептали, а просто подымали на соседа жалобные глаза, и обильные слёзы катились из совершенно нелепых глаз.
Но сколько ни было непостижимо скопище призраков (Белой армии), ещё более удивительным оказался их товар. Тут не было ни сапог, ни шинелей, ни одеял, обязательных для всякой толкучки. Здесь также, как и внизу, продавались деньги и только деньги, но не такие, которые представляли какую-нибудь ценность, а потерявшие всякую, если они её когда-либо имели, денежные знаки мимолётных белых и красных республик, возникших на развалинах Российской империи и исчезнувших, не оставив никаких следов, кроме этих бумажек, которые теперь предлагались сотнями за кусок хлеба[78 - Это место похоже описано в мемуарах одного рус. беженца: «Ещё задолго до прибытия новой группы беженцев из Крыма среди ранее прибывших организовались “Валютчики-биржевики”. Главным центром их сбора была Галатская лестница, служившая как бы продолжением Большой улицы Перы и идущая вниз до Галатской набережной. Пионерами и инициаторами в этой отрасли работы были два-три офицера. Дело оказалось прибыльным, и около них быстро начали оседать другие. Вскоре на протяжении целого квартала по обе стороны дороги стали толпиться эти “валютчики” с пачками русских денег на руках. Это была специально “русская биржа”. На ней котировались и продавались исключительно русские деньги всех правительств, начиная царским и кончая, из-под полы, советским. Особенно усилилась продажа денег после эвакуации Крыма, причём врангелевские и донские деньги продолжали котироваться официальной биржей ещё около месяца, постепенно падая, и, наконец, их стали продавать на вес» (см.: Слободской А. Среди эмиграции // Белое дело: Избр. произв.: В 16 кн. Кн. 13: Константинополь – Галлиполи / Сост., науч. ред. и коммент. С.В. Карпенко. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003. С. 80).]. Чего тут только не было, каких государств, больших и малых, иногда умещавшихся в железнодорожном вагоне, наших, ваших и наших не хуже ваших, независимых областей и вольных городов, суверенных армий и самостоятельных банков, отрядов и земств, северных и южных, всех тех, что входили в титул пропавших царей. Каким бесконечным видоизменениям не подвергся двуголовый орёл: лишённый короны, а то и регалий, он был украшен взамен крестами мальтийскими, андреевскими, награждён конями, пиками, стрелами, но ни одним современным оружием, чтобы сделать его хоть сколько-нибудь годным на борьбу с противниками самодержавия. С другой стороны, сколько всяческих звёзд, колосьев, серпов и прочих сельскохозяйственных и мелкоремесленных орудий красной геральдики. Чем только ни были обеспечены на словах эти бумажки: недрами и поверхностью, стоячими родниками, сахаром, табаком, лесами, полями, течением рек, пушным зверем и даже запасами опиума. И какими чувствительными именами величали солдаты это бумажное добро: тут были акулы и моржи, мухи и пауки, грибы, шпалы, пензенки, шкурники, ленточки, колосники и вплоть до ледовиков[79 - В Константинополе Зданевич вместе со своим тифлисским знакомым Павлом Жемчужиным составил «Каталог бумажных денежных знаков Российской Империи и её новообразований с 1897 по 1921 год» (АЗ, предисловие Зданевича к каталогу опубл. в качестве приложения в кн.: Кудрявцев С. Заумник в Царьграде. С. 171–183).]. Но сколь ни был потрясён и захвачен Ильязд этой историей Гражданской (горожанской) войны, зрелище, которое он вдруг увидел, заставило его позабыть обо всём. Подалёку, окружённый несколькими солдатами, стоял, возвышаясь над ними головой, Алемдар, и о чём-то оживлённо беседовал.
Само присутствие его здесь было легко объяснимо. Пришёл сбывать боны Безносой республики и прочие вывезенные из России. Но то, что он продолжал носить длинную бороду, столь делавшую его непохожим на светского турка, и что, в особенности, был одет точно русский, в защитную форму и фуражку, делало его крайне подозрительным. «Почему это он продолжает здесь выдавать себя за русского?» – спросил Ильязд. Но он ли это? Сомнения быть не могло. В течение нескольких минут Ильязд из-за угла наблюдал за ним, собираясь направиться к нему, разоблачить и подбить солдат на расправу[80 - Вариант: самосуд. Далее приписана ещё фраза – несколько изменённый вариант предпоследней фразы 3-го письма из «Писем Моргану Филипсу Прайсу»: рассказать солдатам о его насмешках и подбить (на этот раз я был среди своих) на самосуд.].
5
Население юга России делилось на жидов и военных, и когда наконец военным надоело пачкаться и они поголовно уехали в Константинополь и на острова, то, следовательно, на юге России остались одни жиды только, а так как север России, в противоположность югу, был населён жидами исключительно, установившими там омерзительную республику, то теперь так называемая Россия уже окончательно сделалась однообразным, безусловным жидовским царством. Поэтому если кому-нибудь приходилось по неосторожности или просто по старой дурной привычке обмолвиться в местах, подобных «Маяку»[81 - Имеется в виду клуб «Русский маяк», организованный амер. YMCA, в котором были столовая, библиотека, различные кружки, проводились концерты, устраивались вечера, чтение докл. и лекций. Он просуществовал с кон. 1920 по октябрь 1922 г., находился на ул. Бруса, 40. Это место в свой второй приезд в Константинополь посещал будущий парижский друг Зданевича поэт Б.Ю. Поплавский. Критический отзыв о клубе см. в кн.: Зарубежный клич / Ред. А. Бурнакин. София: М. Богданов, [1921]. С. 23.] или «Русскому собранию»[82 - Обществ. – полит. и культурно-просветительная право-монархическая организация с таким назв. существовала в России в 1900–1917 гг. Сведений о её деятельности в Константинополе нам обнаружить не удалось, однако известно, что в годы Гражданской войны предпринимались попытки возродить «Русское собрание» на территории юга России, занятой Добровольческой армией.] и тому подобным, где объединялись перебравшиеся за море военные, сказав: «по последним известиям, в России», или «говорят, что большевики», или «Советы теперь воюют», то подобные обороты речи немедленно вызывали удивление и отпор и заболтавшемуся во избежание осложнений дальнейших приходилось немедленно поправляться, произнося: «по последним известиям, жиды», или «говорят, что жиды», или «жиды начинают войну» и тому подобное. И хотя военные были на самом деле далеко не всегда военными, а в большинстве случаев назывались так или потому, что носили защитного цвета одежду и фуражку, или потому, что в России евреям доступа в армию не было, что еврей вообще не вояка (тем паче, что военные, как выше было указано, не были подбиты, а просто сами уехали от отвращения к противнику), и поэтому это лучшее отличие, чем какое-либо иное, то легко себе представить, каково было положение штатского, ничуть не выдававшего себя за военного, штатского, пытавшегося почему-либо проникнуть в девственную чащу, и в особенности если этот откровенный штатский в какой-либо мере смахивал на еврея.
Однако Сальмон не только смахивал или казался евреем, но был просто евреем, хотя и родился в Штатах[83 - «В Штатах» вставлено в рукописи вместо вычеркнутого «в Канаде», но далее в тексте, возможно, по авторской небрежности сохранено указание на канад. Ванкувер как город детства героя (далее в рукописи его родным городом называется уже амер. Лос-Анджелес). Предшественником Сальмона у Зданевича является Самуил Фелькович (Сам) в «Письмах Моргану Филипсу Прайсу», проведший детство и юность в Ванкувере, перебравшийся в Россию и затем занявшийся разнообразным мелким бизнесом в Константинополе. Далее этот герой будет именоваться Борисом, Владиславом, Митрофаном, Мистиславом, Митридатом, Глебом, Сергеем, Фролом, Олегом Fay, Френкелем, Игорем, Левиным и, наконец, Суваровым (и Суворовым). Возможно, его прототипом является живший в США знакомый Зданевича по Константинополю Иосиф Фельдштейн, упоминающийся в списке людей, которым писатель дарил экземпляры своего романа «Восхищение» (изд. 1930), см.: Зданевич И. (Ильязд). Восхищение: Роман. Изд. 5-е, испр. / Подг. текстов, коммент. и примеч. С. Кудрявцева. М.: Гилея, 2022. С. 282–283.], куда его родители, утомлённые прелестями черты оседлости, тайнами места жительства и прочими принадлежностями коренными российского государства, перебрались на поселение со всеми знакомыми и родичами, несмотря на искреннюю любовь к оному государству. Сыну, родившемуся после этого и названному во имя этой неискоренимой любви и несмотря на отчаянные протесты раввина Русланом, Сальмоны передали не только коверканый русский язык, которым пользовались они в быту, но и эту любовь, и в детстве только и слышал Руслан от родителей, какая замечательная страна Россия, какие в ней государыни императрицы, и как было бы приятно в ней проживать, не будь некоторых ограничений для лиц иудейского вероисповедания и несчастных случаев, называемых погромами. И когда в Ванкувер пришло однажды невероятное известие, что государыни императрицы больше не царствуют и, что ещё более замечательно, наследовавшее им правительство отменило все ограничения для евреев, Борис, вооружённый одной любовью и знанием языка, с благословения глубоко несчастных своих родителей, глубоко несчастных потому только, что возраст не позволял им вернуться в страну обетованную, покинул [Штаты][84 - В рукописи зачёркн. «Канаду», но ничего др. не вписано.], перебрался через океан и заколесил по великой сибирской дороге в направлении возвращённого рая. Приехав на место, он немедленно убедился, что всё не только не хорошо, но, несмотря на исчезновение императриц, значительно превосходит те недостатки, о которых ему говорили родители. Погромы и избиение евреев практиковались в таких размерах, словно в этом и заключалась цель нового строя. Если бы не американская внешность и не такой же паспорт, Борис бы давно разделил участь своих единоверцев. Знание русского языка, чем он до такой степени гордился, было ни к чему, Борис избегал им пользоваться, перебираясь из одной губернии в другую, колеся вдоль и поперёк юга России и натыкаясь всюду на одно и то же положение. Не в состоянии пробиться назад на Дальний Восток, Владислав с остаточками своей любви уехал в Константинополь. Его путешествие совпало с исходом военных.
Обстановка[85 - Вариант: атмосфера.] в русском Константинополе была похуже киевской или ростовской. И однако, странное дело, Митрофан, который, казалось, мог легко из Константинополя вернуться в Штаты или во всяком случае проникнуть в американскую среду, найти себе дело в одном из многочисленных звёздных предприятий, усиленно вгонявших американское проникновение в Турцию, словом, вернуться в воду, в которой он сам, делец и человек трезвый, мог превосходно плавать, Митрофан, к собственному удивлению, стал этой среды чуждаться и вовсе бы забыл о том, что он гражданин Соединённых Штатов, если бы всё-таки деловая сторона его характера не преобладала над стороной сентиментальной. В Америке Митрофан Америку не любил. Здесь он её уже презирал[86 - Далее вычеркнут текст: «Все эти бесконечные миссионеры, приезжающие на Ближний Восток нищими и уезжающие богатеями, вывозя склады преподнесённых им на память ковров и старинной утвари, девственницы, приезжающие по контракту на несколько лет работать в конторах, вкушающие все прелести жизни, умело оставаясь девственницами, и в таком состоянии возвращающиеся домой, чтобы, успокоившись, скромно выйти замуж, все эти манеры военного времени, бывшие приказчики, ничего не приобрётшие военного, но бойко торгующие сомнительными чеками и скупающие за бесценок каменья и деятельно содействующие падению местных денег, все эти общества молодых христиан, прочие не менее лицемерные организации, прикрывающие распространение американского керосина…» В этой части текста помечено: особая глава.]. Всю эту свору, спущенную на Ближний Восток после Версаля[87 - Имеется в виду Версальский мирный договор (28 июня 1919 г.), официально завершивший Первую мировую войну. Но установление союзниками, прежде всего англичанами, контроля над проигранным Турцией Ближним Востоком стало возможным уже в результате Мудросского перемирия (30 октября 1918 г.).], Руслан знал достаточно хорошо и не щадил самых последних слов, отзываясь о своих соотечественниках. Возможно, что тут не обходилось и без раздражения, так как, прибыв в Константинополь, Мистислав[88 - Вариант: Митридат.] обнаружил, что хорошие места все уже заняты, а характер его деятельности мало чем должен был отличаться от прочего хищничества.
И вот, поэтому ли или ввиду остаточков любви к далёкой России, если бы ему пришлось самому ответить на этот вопрос, он не ответил бы ни в каком случае, Митридат решил проникнуть в русскую среду. Его появление в «Маяке» было равносильно вторжению оставшихся там, на Севере, в очищенную среду. Митридата не убили, но просто спустили с мраморной лестницы и, может быть, изувечили бы, если бы возмущённый Глеб не извлёк звёздного паспорта. Потерпев подобную неудачу, Глеб, преодолев всё своё отвращение, отправился в американское посольство, в Союз молодых христиан и прочие злачные, как он выражался, места, преисполненные самыми удивительными и человеколюбивыми прожектами помощи русским, и его настойчивость, деловитость и дальновидность были таковы, что посольство и прочие филантропические учреждения решили русским беженцам в конце концов пособить и поручили организацию соответствующих бюро Митридату. И сколь военные ни были возмущены, что им навязали хотя американского, но всё-таки еврея, во власти Митридата была и подмоченная мука, и старое, собранное в Штатах для бедных платье, и бидоны бесплатного керосину, и многие прочие совершенно баснословные вещи, и военщине пришлось в конце концов поступиться последней своей гордостью и обратиться к Митридату за помощью. Так наступил конец света, и жид овладел землёй без остатка.
Что за невероятное и необъяснимое противоречие? Как всякий порядочный американец, Митридат начал свою благотворительную деятельность, чтобы делать дела, но вместо того чтобы делать дела, которые приносили доход, он непременно хотел делать дела с русскими. А какие дела могли быть с этой выброшенной за границу толпой нищих, или во всяком случае ближайших нищих? Скупать у них драгоценности? И Митридат открыл и лавку, и ссудную кассу, и аукционный зал. А так как публика могла не знать адреса, где находятся эти спасительные учреждения Митридата, то Митридат немедленно обзавёлся целой армией всевозможных агентов из восточных, проникновение которых было в русскую среду беспрепятственно, и эти посредники должны были с таким усердием из этой среды выкачивать всё стоящее внимания, с какой сам Митридат снабжал лагеря и общежития американской мукой и остатками американских стоков, за счёт собранных в Штатах в пользу русских беженцев средств. И какой только ерундой он не занимался, какую только заваль не скупал у этих беженцев, вместо того чтобы торговать автомобилями, керосином или играть на понижение. Сказать, что у беженцев, когда они покинули юг России, уже ничего нужного не было, достаточно, чтобы определить, что скупал Митридат. Обручальные кольца, нательные кресты, поношенные меха, старомодные брошки, убогие серьги, подстаканники, столовое серебро, фотографические аппараты и так далее. Затем пошли почтовые марки. Обилие всяческих частных эмиссий, к которым европейские коллекционеры сперва отнеслись с доверием, делало этот товар занимательнее серёг и подстаканников. Для торговли этим товаром Митридат открыл специальную лавку. За почтовыми марками дошла очередь до денежных знаков[89 - Прообразом этой лавки послужила меняльная контора П. Жемчужина и Серебрякова из повести Зданевича, см.: Ильязд. Письма Моргану Филипсу Прайсу. С. 119–120.]. Митридат стал хозяином толкучки.
Здесь он действительно господствовал, и безраздельно. Сняв половину греческой прачечной, Сергей ушёл с головой в это дело, выгоды коего казались более чем сомнительными. Он устанавливал цены на эмиссии, создал особую биржу, коей руководил по своему усмотрению, понижал сегодня верхнеудинские рубли, а завтра повышал колчаковские, затем колчаковские падали, зато в спросе были так называемые жуки, за жуками шла очередь моржей и тому подобное. Этакая деятельность заставила Фрола войти в сношение не только с рядовыми беженцами, где у него были уже прочные друзья и защитники, но и верхами белого командования, а потом и разными прочими беженскими правительствами, горским, грузинским, армянским и так далее, находившимися в Константинополе, получая необходимый ему товар из первых рук, заботясь о притоке нового, измышляя новые способы сбыта и приобретения и так далее. И в ту минуту, когда Ильязд готовился наброситься на Синейшину[90 - Это новое наименование Алемдара перекликается с употребляемыми по отношению к нему эпитетами «синеглазый», «синий», «голубой». Известен сходный неологизм В. Хлебникова, использованный в ранней редакции ст-ния в прозе «Зверинец» (1909), где «красивым синейшиной» назван павлин, см.: Письмо В. Хлебникова к В. Иванову от 10 июня 1909 г. // Хлебников В. Неизд. произв.: Поэмы и стихи (ред. и коммент. Н. Харджиева). Проза (ред. и коммент. Т. Грица). М.: Худож. лит-ра, 1940. С. 356. В первой публ. «Зверинца» в сб. «Садок судей» (1910) Хлебников заменил «красивого синейшину» на «синего красивейшину». Отсылкой к этому тексту Хлебникова может являться и характеристика сцены в Айя Софии в момент её захвата ряжеными островитянами как «невероятного зверинца» (гл. 10, ср. также алемдаровский «удивительный зверинец» из бывших тур. пленных в гл. 3).], последний, покинув вдруг группу солдат, с которыми он говорил, поспешно вошёл в магазин, на витрине которого было написано чёрными обведёнными золотом буквами: «Фрол[91 - Вариант: Олег Fay.], покупка и продажа почтовых марок и бумажных денег»[92 - На обороте одной из страниц рукописи автор даёт др. вариант этой вывески: «Суворов, покупка почтовых марок и денежных знаков по наивысшим ценам. Говорят по-английски».].
Ильязд ворвался следом. В прачечной, где он оказался теперь, хлопотало несколько увесистых женщин, а в углу, близ входа, стоял стол, за которым в плетёном кресле восседал обыкновеннейший человек, но с видом таким уверенным, будто действительно он был занят каким-либо важным делом[93 - Судя по записям на обороте одной из страниц рукописи, встреча Ильязда с этим героем происходит 15 декабря, т. е. через месяц после его прибытия в Константинополь.]. Так как вывеска была английская, то Ильязд обратился по-английски, прося сидящего осведомить его, куда делся русский верзила, только вошедший в лавчонку. Но сидящий, не отвечая на вопрос, длительно осмотрел Ильязда и спросил в свою очередь:
– А почему, в сущности, этот верзила вам нужен? – вызвав Ильязда на длительную и горячую исповедь. И по мере того как Ильязд говорил, не в силах остановиться, сидящий, внимательно слушавший и отсылавший прочь то и дело врывавшихся русских, предлагавших товар, крича:
– Зайдите через полчаса, видите, я ужасно занят (это уже по-русски), – приходил в состояние всё большего восхищения, пока наконец не перебил Ильязда:
– Действительно, я вас очень хорошо понимаю, вы должны встретиться с великаном, я всё устрою, но вы сами для меня исключительная находка, отныне вы принадлежите мне, исключительно мне, пойдёмте отсюда, здесь нам мешают, – расстался с креслом, выбежал на улицу, подозвал к себе какого[-то] белогвардейца, объяснил ему что-то на чудовищном языке и, увлекая Ильязда, бросился вверх по базару в направлении Пера.
– Успокойтесь, успокойтесь, – кричал он на ходу, – я его вам найду. Я всё устрою, всё сделаю для вас. Я, Олег, вам обещаю, а знаете, что значит, когда Олег обещает что-либо?
Но когда они забрались после продолжительного бега в кофейню, Олег, не перестававший в течение всей дороги повторять:
– Успокойтесь, я, Олег (с ударением на «о»), вам обещаю, – Олег внезапно умолк и, усевшись, уставился на Ильязда, глядя на него с мучительным напряжением. Смущение Ильязда, потрясённого в одинаковой мере встречей с Синейшиной и с этим красавцем, было настолько велико, что он сперва разболтался, потом дал увлечь себя и теперь глупо молчал, позволяя Олегу таращить на него не то зелёные, не то коричневые глаза. Наконец, после продолжительного раздумья, лоб Френкеля вдруг разгладился и на лице его засияла улыбка неистощимого самодовольства, озарявшая его во время изъяснений Ильязда в лавке:
– Вы не представляете себе, до какой степени забавно всё, что вы мне рассказали о вашей встрече с высоким турком. Но я делец совершенно, и если теряю время на беседу с вами, то потому только, что вижу во всём этом возможность дела. У вас есть личные соображения, которые я уважаю, но до которых мне нет дела. Вы ими можете не поступаться. Но я вас беру на службу и не скрываю от вас, что вы для меня совершенно исключительная находка. Помилуйте, вы не дурак, явление в Константинополе чрезвычайно редкое, вы русский, избегающий русских и потому от них не зависящий, и, наконец, вы всё-таки русский, но изъясняющийся по-английски, и можете мне служить переводчиком и проводником, так как если бы вы знали, каким языком наделили меня родители, каким языком, – закончил он с искренним горем в голосе.
– Вы меня берёте к себе в секретари? – осведомился Ильязд.
– В секретари? Нет, что вы, ваша служба должна заключаться в том, что вы по-прежнему не будете ничего делать, то есть по-прежнему будете вести тот образ жизни, который вы ведёте там, в Софии, и только, я от вас больше ничего не требую, время от времени мы будем встречаться, вы будете меня развлекать вашими невероятными рассказами, и только.
Поймите, чудак вы этакий, дельцы мне не нужны, я сам делец, мне нужны чудаки, такие вздорные, как вы, а таких, как вы, я ещё не видывал. Синие глаза, церковная архитектура, язык цветов, «Девяносто пять». Какие это перлы, какие изумительные перлы. Барнум[94 - Финеас Тейлор Барнум (1810–1891) – знаменитый амер. цирковой антрепренёр, мистификатор, шоумен и политик. Был фактическим зачинателем совр. коммерческого и политич. пиар-менеджмента и зарабатывал на своих манипуляциях колоссальные прибыли.] составил себе порядочное состояние, а в его учреждении не было ни одного такого феномена, как вы. С какой луны вы свалились? Ах, впрочем, не всё ли равно? Россия, Россия, удивительная страна, только она может производить таких феноменов.
Вы не обижаетесь на меня, надеюсь, что я вас приравниваю к уродам? Вы отлично понимаете, – продолжал Олег с яростью в голосе, – что вы душевный урод и достаточно умны, чтобы усмотреть в этом обиду. Будем называть вещи своими именами. Но предупреждаю вас, не думайте, что я, находя вас забавным, предполагаю забавляться на ваш счёт, предлагаю вам играть роль шута. Нет, я делец, я извлеку из вас не одно дело без всякого для вас ущерба и обиды. Вы остаётесь самим собой, и только. И только, и только, – повторил он ещё два раза, отвечая себе на свои мысли.
Ильязд вспомнил о свиных зубах в кармане, об улочке Величества и почувствовал невыразимую скуку. То, что он нуждался в деньгах, так как скудные средства, которыми он располагал, были на исходе, и даже, живя на всём готовом и на иждивении у Хаджи-Бабы, Шерефа и Шоколада, надо было всё-таки что-то зарабатывать, – сделало эту скуку ещё острей. Почему он должен был принять предложение, такое унизительное и фальшивое, этого торговца воздухом? Почему это предложение было облечено в такие недопустимые и потому подкупающие Ильязда формы? Он допил кофе, всё без остатка, вместе с гущей, покачался на стуле, смотря в сторону, и громко вздохнул.
– До чего вы чувствительны, – воскликнул не перестававший наблюдать за ним Борис, – уже омрачились, забудьте, забудьте, не вспоминайте о том, что я вам сказал!
– Дело не в чувствительности, – наконец проговорил Ильязд, преодолев странную лень. – Я не хочу чувствами отвечать на ваш деловой подход. Вы предлагаете мне договор, суть которого мне неясна, и в котором таится несомненный подвох. Но я не боюсь вас, мой дорогой, так как нет ничего в мире, что бы могло одолеть моё своенравие. И чтобы вам это доказать, что я, как всякий порядочный человек, готов на что угодно, если только вы платите, я принимаю ваше предложение на условиях взаимности: не забудьте, что я попал к вам в поисках турка, выдающего себя за русского, и которого вы должны знать, так как он скрылся у вас и торгует бумажными деньгами. Я принимаю ваше предложение ничего другого, кроме того, что я делаю, не делать, если вы обяжетесь взамен, чего вы избегаете, пойти и разоблачить этого негодяя.
Еврейчик расхохотался завидным смехом:
– Сумасшедший, настоящий сумасшедший, готов продаться в рабство из-за какого-то турка. Но, впрочем, вы же совершеннолетний, знаете, что делаете. Отлично, отлично. Я не только не уклоняюсь от поисков, но готов с вами приняться за них немедленно, в Стамбуле вас подождут, вот пятьдесят лир, это в счёт вашего жалования, идемте пока обедать…
– Когда я пришёл к убеждению, что букет Шеро был произведением литературы светской, я потерял было надежду дожить до окончания своего труда. Пришлось начать всё сначала, во-первых, составить перечень всех цветов, произрастающих в Персии, и таких, которые могут в ней произрастать в шахском парке, как на воздухе, так и в теплицах и в холодильниках, затем собрать подробнейшие сведения о качествах каждого – цвет, запах, рисунок, поведение, вкус, особые свойства, например, ядовитость и так далее, изучить воздействие каждого на чувства созревшей и томящейся по жениху девушки – влияние цвета, возбуждающее значение красного, успокаивающее или выводящее из себя неуместной моралью белого, влияние запахов пьянящих, сладких, так называемых дурманящих или, наоборот, едких, кислых и зловонных, наконец, ассоциации по форме, в особенности изучение цветов, напоминающих губы, язык или половые органы, особая выразительность цветов, закрывающихся и открывающихся от света (надо предполагать, что если цветы были живыми, то принцесса достала их из ящика и тем самым перенесла их из темноты на свет). Вы понимаете, какая огромная это работа. И как далёк должен был быть простой язык принца от замысловатых духовных грядок, тем более что цветы гораздо больше подходят для игривых текстов, чем для текстов духовных…
Однако Шереф, превосходно владевший языками восточными, из западных не знал ни одного, кроме обязательного французского[63 - В светских тур. школах преподавались перс. и араб. языки, а основным средством общения с европейцами был фр. язык.], а между тем знание латыни было необходимо для правильного ведения этой работы. Обязанности латиниста и должен был выполнять Ильязд. Он должен был рыться в произведениях средневековых авторов и современных ботанистов и зоологов, переводить латинские названия цветов, перечитывать первоисточники их описаний и тому подобное. Шереф каждый день приволакивал новую литературу, которая складывалась под скамейкой, а по прочтении уносилась обратно. И не мог не признать, что благодаря Ильязду работа его двинулась решительным шагом вперёд, и что он заслужил свой чай и хлеб, которые он получал за счёт Шерефа.
Но одним хлебом и чаем долго не проживёшь. Ильязд не прочь был бы получить ещё работу. Когда стало очевидно, что он на что-нибудь годен, Шоколад-ага заявил однажды, что такой человек как Ильязд будет ему крайне нужен для некоторых работ в султанской библиотеке, работ, которые начнутся только через некоторое время, но что он берёт Ильязда на службу теперь же и требует поэтому, чтобы тот уделял ему положенное время, поддерживая с ним беседу, каковая явится как бы подготовительной стадией для будущих дел латиниста. И хотя Шереф в этом увидел пустой каприз и желание отнять у него необходимого работника, однако должен был с новым положением вещей согласиться, и Ильязд после занятий с ним менял место и подсаживался к Шоколад-аге.
Разговоры Шоколад-аги были до утомительного однообразны. Нет ничего удивительного поэтому, что никто не хотел его слушать, и ему за деньги пришлось искать слушателя, да и нашёл он его в лице Ильязда (библиотечная работа была, разумеется, предлогом), а ни один из турок не пожелал выполнять за гроши подобной роли. Речь только и шла о прелестях бывшего гарема и вообще о прелестях дворцовой жизни до переворота и до войны[64 - Султанский гарем просуществовал до 1909 г., когда был низложен султан Абдул-Хамид II, правивший с 1876 г.]. И если бы Шоколад ограничивался бранью по адресу младотурок, с ним можно было бы спорить. Если бы он рассказывал о прелестях женских, которые он видел, о подробностях любовной жизни Абдула Гамида, об однополой любви между женщинами гарема, о чём он знал, вероятно, более чем достаточно, он бы не только заставил себя слушать, но, какое может быть сомнение, значительно увеличил бы клиентуру Чауша. Нет, когда Шоколад говорил о прелестях, он думал вовсе не о женских прелестях, а об этикете, о величественном церемониале Ворот Благоденствия, столь поколебленном и даже окончательно разрушенном новыми временами[65 - Ворота Благоденствия, или Ворота Счастья (Bab-?s-Saadet) – охраняемые толпой «белых» евнухов третьи ворота дворца Топкапы, «торжественные ворота святилища царя царей», за которыми находилась резиденция султанов.]. Нет, поймите как следует. Во времена Шоколада, когда он сам был одним из ближайших евнухов и шутом одной из кадин[66 - В гаремной иерархии – одна из фавориток из числа наложниц султана.], которая умерла после от горя, обязанности главной казначейши исполнялись такой-то. Понимаете, каков был ритуал его выходов. Или… разговаривать с кормилицей султана нужно было не иначе как так. Надо было опускать голову и начинать со слов. Удаляться из покоев, пятясь, нужно было после беседы с такими-то женщинами, а после беседы с другими можно было просто удаляться. Положение так называемых на виду предопределялось тем-то, положение супруг так-то. Но если бы хотя одно имя, хотя бы одно слово о благоденствии, а то говорящий кодекс и только. Правда, бывали живописные подробности. Удостаиваемая султаном внимания должна была не ложиться в постель, как практикуют теперь по гнилому европейскому обычаю, а влезать под одеяло, начиная с ног постели, так как любовь начинается с подошв[67 - Ср. со словами из докл. И. Зданевича «Поклонение башмаку», прочитанного 15 апреля 1914 г. в «Бродячей собаке»: «Ноги страж и одновременно корни. Вот почему любовь так любит ноги как самое близкое в земле, вот почему любовь, по словам Паллады, начинается с подошв», см.: Зданевич И. Футуризм и всёчество. 1912–1914: В 2 т. / Сост., подг. текстов и коммент. Е.В. Баснер, А.В. Крусанова и Г.А. Марушиной; общ. ред. А.В. Крусанова. Т. 1. М.: Гилея, 2014. С. 174–175. Паллада – поэтесса Паллада Олимпиевна Богданова-Бельская (1885–1968), в гостях у которой был написан этот докл.]. Но таких перлов было так мало, и Шоколад-ага, несмотря на всю весёлую внешность, излагал их таким замогильным голосом, что даже Ильязд, при всём своём любопытстве к вещам ничего не стоящим, скучал, заучивая наизусть организацию бывшего султанского гарема, который уже, по словам Шоколада, не существовал, так как теперешний султан в Долма Багче[68 - Речь идёт о последнем тур. султане Мехмеде VI, который правил в период развала государства (1918–1922) и был, по сути, изолирован в своём дворце Долма Багче (Долмабахче) на берегу Босфора.] – не султан, а одно недоразумение, чему самый факт присутствия Шоколада в кофейне достаточное подтверждение. Когда же Ильязд спрашивал[69 - Вариант: однажды спросил.] Шоколада, в какой мере это изучение кодексов султанского гарема может явиться подготовкой к будущим библиотечным работам, Шоколад раздражённо отвечал, что Ильязд всё-таки глупее, чем можно было ожидать, и не отличается ничем от всех этих болванов Чауша, Чени и Шерефа с его идиотскими букетами, так как если бы был умён, то понял, что разговоры о гареме – это так себе, предлог, всё равно, что изучать, но Шоколад проверял память Ильязда, способность его к удержанию в голове сухих положений, так как работа будущая возможна будет только в том случае, если Ильязд обнаружит способность к увлечению мёртвыми вещами.
– Ты был достаточно умён, не спросив меня ни разу о женских прелестях, так как я нарочно выбираю такой соблазнительный предмет бесед, но этого мало, и в тот день, когда ты сможешь без ошибки мне изложить все детали организации гарема, мы пойдём в библиотеку. Только берегись, если я узнаю, что ты что-нибудь из разговоров записываешь.
Хаджи-Баба был последним, заявившим о желании пользоваться услугами Ильязда. Однажды вечером, перед сном, когда Ильязд, проводив Бабу на чердак, готовился обыкновенно немедленно сойти и отправиться на продолжение своих обязательных ночных путешествий, Хаджи-Баба, усевшись на зеркало, остановил Ильязда и сказал:
– Моя работа не представляет никаких затруднений. Завтра ты отправишься на ту сторону в поганые кварталы[70 - Хаджи-Баба так говорит о константиноп. районах Галата и Пера, расположенных на севере от бухты Золотой Рог и населённых тогда преимущественно греками, армянами и др. христианами-европейцами (а к тому моменту и рус. беженцами). В период союзнической оккупации районы были под контролем Великобритании.], чтобы принести то, чего нельзя найти здесь и что ни один мусульманин не может принести, так как ни один порядочный мусульманин не переходит на ту сторону, и я, стараясь держаться честных правил, ни разу там не был за свою долгую жизнь, словом, будь готов отправиться завтра с утра, я тебе завтра же объясню, в чём дело, – отвернулся и принялся за свои бормотания.
Ночной пир был наиболее важной частью суточного круга Ильязда. Ибо ночь, которая никогда не была его привязанностью, а в возрасте зрелом постоянные передвижения вынудили её даже остерегаться за отвратительную способность нарушать установленные днём отношения между вещами, калечить предметы, нагружая их внутренним и лишая внешнего, и за её бесцеремонные отношения со временем, долгое делая мимолётным и незначительное ожидание невыносимым, сделал[ась] теперь его главным другом. Он выходил на Дворцовую площадь, направляясь к фонтану. Журчание вселяло в него уверенность, так как он не чувствовал себя одиноким. Он более не прозябал, заблудившийся неудачник, не коротал время за детскими играми, а жил, подобно окружавшему его зодчеству, медленно испепеляя в себе неисповедимые богатства. В тишине, ещё более густой от непрерывного журчания, он руками и дыханием гладил и согревал остуженный осенью мрамор. Отсюда, будто воздушный, шар Софии был виден весь, достаточно далёкий, чтобы мелочи могли превозмочь идею. Ни полумесяца, ни пристроек, примытых веками, формы чистые геометрии, ум ума, забава, возведённая в степень величества. Ильязд пил хрустальную влагу её объемов и, глядя на вечное юное тело, спрашивал себя, кто сказал, что мудрость стара, мудрость – вечная юность. Но по мере того как прислонившись к фонтану, он всё больше всматривался в громаду, подавленный её торжеством, небо начинало светить от приближения полумесяца, в согласие врывался разлад, наконец зажжённый полумесяцем полумесяц [Софии] возвратил Ильязда к действительности. И тогда, торопясь воспользоваться часами уходящей ночи, Ильязд начинал свой дозор, устремляясь к ристалищу.
Какой порок увлекал его, молодого человека и вышедшего из среды, где всё только и жило будущим, убивать своё мужество, распылять свою силу, жажду героизма, борьбы и подвигов созерцанием остатков прошлого и повторять себе, что даже вот это величество ни к чему не привело и всё только суета сует? Почему вместо того чтобы жить, действовать, быть с теми, кого он считал своими, он сидел между двух стульев, скрывшись, запрятавшись, схоронив себя заживо на сей улочке, пользуясь покровом ночи, бежал, фантазёр, мимо мечетей и обелисков, вдоль кипарисов, подымая то и дело руки, жестикулируя, разговаривая с призраками, которых не видел? А потом бежал по узеньким улочкам, и потом под гору к морю, где встречный морской ветер неожиданно бил его по лицу, спотыкался и падал, пока, приблизившись к Малой Софии, не оказывался у полотна железной дороги, среди пустыря, поросшего крапивой, тут садился и плакал?
Ветер, дувший с (Принцевых) островов, затихал, и предутренняя свежесть расстилалась по берегу. Бурьян становился мокрым и пахучим. Созвездия успели так сильно переместиться, что более нельзя было узнать неба. Время от времени то тот, то другой звук, не то всплеск вёсел или падающего в воду тела заглушал шуршание ночи. Начинало ломить в коленях и плече. Хотелось спать. Ильязд вставал и спешил домой.
Участок между ведомством юстиции, мечетью Ахмета и морем, который предстояло ему пересечь на обратном пути, обширная площадь, сперва пологая, а потом круто спускающаяся к морю, был самым отталкивающим пустырём в окрестностях. Опустошённый пожарами и временем, участок этот, где некогда были расположены покои византийских императоров, был в плоской своей части покрыт грудами кирпича, а откос – развалинами дворцов и служб, стены которых то тут, то там высовывались из-под земли, и так до самого моря, где на берегу, разрезанный железной дорогой, один из них ещё возносил величественные колонны и окна. Откос этот теперь служил свалочным местом окрестному населению. Полузасыпанные покои были обращены в ямы, и ветер разносил повсюду подымавшееся над развалинами зловонье[71 - Ильязд набрёл на развалины строений Большого (Священного) дворца визант. императоров, занимавшего ок. 400 тыс. кв. м. В XII в. он был покинут императорами, переехавшими во Влахернский дворец (в др. части старого города, на берегу Золотого Рога), и ко времени осман. завоевания пришёл в полный упадок.].
Наткнувшись в первую ночь на византийский дворец, Ильязд обнаружил, что среди этих груд кирпича и кала ютятся люди. Сперва он подумал, что ошибся. Нет, это было действительно так, некоторые пещеры светились, из других доносился кашель и отрывки разговоров.
Ильязд поведал о своём открытии Хаджи-Бабе.
– Это цыгане, такая у них порода и вид, что только в говне жить и могут, – объяснил тот. – Ступай к Новому Саду[72 - Новый Сад, или Новые Огороды – Ени Багче, место цыган. поселения в западной части города около городских ворот Силукуле.], там немало таких же. Только лучше послушайся меня и не ходи ни туда ни сюда, запачкаешься.
И однако Ильязд отправился перед заходом в кофейню, днём, осмотреть места, по которым проходил ночью. Ямы зияли, пирамиды отбросов возвышались, но никого, по-видимому, не было.
Тогда Ильязд, протянув, снедаемый любопытством, до полуночи, решил, простившись с Хаджи-Бабой и не уделив никакого внимания его предложению, отправиться вместо обычного кругового пути прямо на поле отбросов и выяснить, действительно ли это цыгане. Его ум, склонный к схемам, уже был увлечён этими дикарями как противоречием византийскому зодчеству. Да и можно ли подыскать лучшую обстановку для Софии? София, совершенная мудрость, – в плену у цыган, живущих в клоаках и питающихся чёрт знает чем. Открытие, сделанное накануне, сообщало созерцанию Ильязда чрезвычайную полноту, и ему думалось, что отныне эти дозоры будут обязательны для него в течение всей жизни, будучи для него великим символом: мудрость в начале, клоака в конце. И хотя накануне он вернулся на улицу Величества полный омерзения, дал себе слово никогда больше не приближаться к откосу, сегодня тот же порок гнал его дышать морским ветром, смешанным с запахом отбросов[73 - Вариант: матросов.].
Сегодня Ильязд уже не куксил. Освещённый, обновлённый, он вернулся на места. Сомнений не было. Клоаки были населены. Он слышал кашель, хрип, разговоры, видел сперва одну человеческую тень, которая вылезла из норы, вскарабкалась на соседнюю кучу мусора, покопалась там, вернулась и исчезла. Затем в ночи выросло несколько других, спустившихся по откосу и вошедших в ямы. Ильязд подошёл совсем близко к освещённому зеву, но оступился, и вырвавшиеся у него из-под ног обломки зашумели. Но каково было его изумление, смешанное чёрт знает с чем, когда до него донеслись из глубины отчётливые слова, сказанные по-русски: «Кто идёт?», и на фоне зева показалась тень, одетая в солдатскую шинель и фуражку. Ильязд ничего не ответил, а если бы хотел, то, вероятно, не смог бы. Сжался, припав к отбросам, пока тень не ушла, дополз на четвереньках до площади и потом, не оборачиваясь, бежал до дому.
На следующее утро, не спав всю ночь, Ильязд в самом сумбурном состоянии духа отправился выполнять поручение Хаджи-Бабы. Впервые со времени своего приезда в Стамбул он покидал окрестности Айя Софии. Но подавленный стыдом и досадой, он шёл машинально, решительно ничего не замечая.
Но он перешёл мост, всё вокруг стало таким необычайным, что он поневоле должен был отказаться от самодовления. Маклера в пальто, но без шляп, вышмыгивали из банков, хрюкая, взвизгивая и голося, потрясая в кривых и коротеньких ручках пачками денег, забегали в меняльные лавки, тормошили стоявших за прилавками, врывались в здание биржи, откуда доносились крики и вой, сквозь приоткрытую дверь было видно, как в обширной зале бились и спорили биржевики, покидали биржу всклоченными, помятыми, без галстуков и воротников, и останавливались вдалеке оттуда, чтобы размять ноющие бока и отряхнуться. На витринах лежало золото, золото и золото, как нарочно вываленное напоказ, за прилавками считали золото, разворачивали столбики и рассыпали золото пригоршнями по прилавку. Особая разновидность, наводнив площадь, юлила вокруг прохожих, спрашивая, нет ли желающих продать золото, и вытаскивала из чужих карманов золотые, всучая прохожему засаленные бумажки. И что за галерея человечьей породы была вокруг! Или слишком тощие, или чересчур оплывшие, но первые – не утратившие достоинства, последние – подвижности, вообще маленькие, но иногда даже кукольного роста, с губами в прыщах и язвах от непрерывного облизывания денег, с глазами блестящими, но такими же бесцветными, как деньги, отдающие перхотью и немытыми ногами, с золотыми обручами во рту вместо зубов, с ушами лохматыми и без мочек, перпендикулярными к личикам, с черепами голыми, но зато затылками, поросшими непроницаемой шерстью, с ногами, обязательно выгнутыми, в обуви без каблуков и походкой напоминающие трясогузку, скачущие по площади биржевики напрягали все силы извлечь как можно больше выгоды из стремительного явления, созданного оккупацией, и потели непрерывно. Лира падала.
Столовых, питейных на площади не было. Зато царила кондитерская, и суетившиеся дельцы то и дело забегали в неё, чтобы отведать пирожного, напиться шербету или нажраться халвы. Чудовищные пироги с мясом, облитые маслом и посыпанные сахаром, громоздились в окнах. И золотые рты пожирали несметное количество сластей, тяжёлых и жирных, нисколько не заботясь стереть с губ следы сих пиршеств, напротив, размазывая сироп по лицу, рассыпая крошки по одежде, оставляя куски пирожного в усах и бородах, и так как всё поедалось руками, варенье украшало не только груди и рожи, но и ручки дверей, стены домов и деньги, путешествовавшие по площади. Ильязд не выдержал, вошёл в кондитерскую и стал набивать желудок, краснея от удовольствия[74 - На обороте этого листа рукописи автор написал: «а буржуазия, если бы тебя мож[но] было вытравить без остатка».].
Да или нет? Продолжать жить с евнухами и самому стать таковым или действовать, сражаться, действовать всё равно как, всё равно в чём, но не вянуть так в бездействии, созерцании, снедаемым горечью и разочарованиями. До чего грустной, бесполезной, линючей ему казалась теперь жизнь у Хаджи-Бабы, которую ещё вчера он считал венцом мудрости. Нет, лучше быть биржевым маклером, чем волхвом, бежать, бежать оттуда. И решив выполнить поручение Хаджи и с ним распрощаться и покинуть улочку Величества, Ильязд вышел из кондитерской и отправился дальше, пока не добрался до рыбного базара[75 - Рыбный базар находится в средней части Большой улицы Перы (о ней см. примеч. 58).], где скупил за гроши достаточное количество свиных зубов.
Обратный путь он совершил вдоль Пера[76 - Пера (от греч. «за», «по ту сторону», т. е. «по ту сторону Золотого Рога») – в те времена назв. константиноп. района, находящегося на севере от бухты Золотой Рог (сейчас район называется Beyoglu). Пера – также длинная торговая улица в центре района, располагавшаяся между площадью Таксим и Галатской башней. Её полное назв. – Большая улица Перы (Grand rue de Pera, ныне пешеходная ?stikl?l Caddesi). После революции октября 1917 г. «Перина улица» (так её назвали прибывшие сюда казаки) на несколько лет стала оживлённым местом рус. эмиграции (особенный приток беженцев – из Новороссийска, Крыма, Закавказья – пришёлся на 1919–1921 гг.). На ней и в её окрестностях, а также в районе Галата, открылись рус. магазины, рестораны, конторы, кабаре, игорные и публичные дома (о недовольстве местных жителей, прежде всего женщин, засильем чуждых им нравов, привнесённых огромной массой беженцев, см., в частности: Ипполитов С.С., Недбаевский В.М., Руденцова Ю.И. Три столицы изгнания. Константинополь. Берлин. Париж. Центры зарубежной России 1920-х – 1930-х гг. М.: Спас, 1999. С. 14, 17–19). Там же, неподалёку от посольств Великобритании, Франции, Австрии, Швеции и др., располагалось посольство царской России (ныне Генеральное консульство Российской Федерации).Соседний с Пера торговый район Галата был в XIII в. заселён латинянами (крестоносцами IV похода), а позднее генуэзцами, превратившими его в крепость. Его наиболее известное сооружение – воздвигнутая в XIV в. Галатская башня. Начинающийся ниже неё ступенчатый спуск (Y?ksek Kaldirim Caddesi), тот самый, где шла торговля рос. бумажными деньгами и почтовыми марками, называли Галатской лестницей, или просто Лестницей. Ещё ниже, у самой бухты, – район Karak?y (букв. «Чёрная деревня»).], мимо её пошлейших посольств и витрин, и считал прогулку оконченной, начав спускаться, когда обстановка внезапно изменилась и перед ним оказалась толкучка, через которую трудно было протискаться. Но здесь не было ни греков, ни армян, ни турок – все [были] русскими.
Опять русские. Стоило бежать за моря, дать себе слово никогда не возвращаться и перестать себя считать русским – и натыкаться на них на каждом шагу[77 - На обороте одной из страниц рукописи написано: «Оголтелые пероты Мракобесие Стыдно быть русским».]. Ильязд хотел было свернуть в боковую улицу, но на этот раз зрелище настолько задело его, что он не только не свернул с дороги, но торопливо вошёл в толпу. Это были всё одни и те же солдаты, переутомлённые бесконечными войнами, в одеждах, окончательно изношенных, с глазами мертвецкими, не люди, а тени, те, что вымерли тогда в море и стояли теперь прозрачные и бесплотные. Сотней шагов ниже, в Галате, стоял невообразимый шум, здесь не разговаривали даже, а нашёптывали, точно сама речь стала невыносимым трудом для загнанных сих людей, некоторые стояли, прислонившись и опустив веки, и было очевидно, что не могут двинуться от усталости. Другие, предлагая товар, даже не шептали, а просто подымали на соседа жалобные глаза, и обильные слёзы катились из совершенно нелепых глаз.
Но сколько ни было непостижимо скопище призраков (Белой армии), ещё более удивительным оказался их товар. Тут не было ни сапог, ни шинелей, ни одеял, обязательных для всякой толкучки. Здесь также, как и внизу, продавались деньги и только деньги, но не такие, которые представляли какую-нибудь ценность, а потерявшие всякую, если они её когда-либо имели, денежные знаки мимолётных белых и красных республик, возникших на развалинах Российской империи и исчезнувших, не оставив никаких следов, кроме этих бумажек, которые теперь предлагались сотнями за кусок хлеба[78 - Это место похоже описано в мемуарах одного рус. беженца: «Ещё задолго до прибытия новой группы беженцев из Крыма среди ранее прибывших организовались “Валютчики-биржевики”. Главным центром их сбора была Галатская лестница, служившая как бы продолжением Большой улицы Перы и идущая вниз до Галатской набережной. Пионерами и инициаторами в этой отрасли работы были два-три офицера. Дело оказалось прибыльным, и около них быстро начали оседать другие. Вскоре на протяжении целого квартала по обе стороны дороги стали толпиться эти “валютчики” с пачками русских денег на руках. Это была специально “русская биржа”. На ней котировались и продавались исключительно русские деньги всех правительств, начиная царским и кончая, из-под полы, советским. Особенно усилилась продажа денег после эвакуации Крыма, причём врангелевские и донские деньги продолжали котироваться официальной биржей ещё около месяца, постепенно падая, и, наконец, их стали продавать на вес» (см.: Слободской А. Среди эмиграции // Белое дело: Избр. произв.: В 16 кн. Кн. 13: Константинополь – Галлиполи / Сост., науч. ред. и коммент. С.В. Карпенко. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003. С. 80).]. Чего тут только не было, каких государств, больших и малых, иногда умещавшихся в железнодорожном вагоне, наших, ваших и наших не хуже ваших, независимых областей и вольных городов, суверенных армий и самостоятельных банков, отрядов и земств, северных и южных, всех тех, что входили в титул пропавших царей. Каким бесконечным видоизменениям не подвергся двуголовый орёл: лишённый короны, а то и регалий, он был украшен взамен крестами мальтийскими, андреевскими, награждён конями, пиками, стрелами, но ни одним современным оружием, чтобы сделать его хоть сколько-нибудь годным на борьбу с противниками самодержавия. С другой стороны, сколько всяческих звёзд, колосьев, серпов и прочих сельскохозяйственных и мелкоремесленных орудий красной геральдики. Чем только ни были обеспечены на словах эти бумажки: недрами и поверхностью, стоячими родниками, сахаром, табаком, лесами, полями, течением рек, пушным зверем и даже запасами опиума. И какими чувствительными именами величали солдаты это бумажное добро: тут были акулы и моржи, мухи и пауки, грибы, шпалы, пензенки, шкурники, ленточки, колосники и вплоть до ледовиков[79 - В Константинополе Зданевич вместе со своим тифлисским знакомым Павлом Жемчужиным составил «Каталог бумажных денежных знаков Российской Империи и её новообразований с 1897 по 1921 год» (АЗ, предисловие Зданевича к каталогу опубл. в качестве приложения в кн.: Кудрявцев С. Заумник в Царьграде. С. 171–183).]. Но сколь ни был потрясён и захвачен Ильязд этой историей Гражданской (горожанской) войны, зрелище, которое он вдруг увидел, заставило его позабыть обо всём. Подалёку, окружённый несколькими солдатами, стоял, возвышаясь над ними головой, Алемдар, и о чём-то оживлённо беседовал.
Само присутствие его здесь было легко объяснимо. Пришёл сбывать боны Безносой республики и прочие вывезенные из России. Но то, что он продолжал носить длинную бороду, столь делавшую его непохожим на светского турка, и что, в особенности, был одет точно русский, в защитную форму и фуражку, делало его крайне подозрительным. «Почему это он продолжает здесь выдавать себя за русского?» – спросил Ильязд. Но он ли это? Сомнения быть не могло. В течение нескольких минут Ильязд из-за угла наблюдал за ним, собираясь направиться к нему, разоблачить и подбить солдат на расправу[80 - Вариант: самосуд. Далее приписана ещё фраза – несколько изменённый вариант предпоследней фразы 3-го письма из «Писем Моргану Филипсу Прайсу»: рассказать солдатам о его насмешках и подбить (на этот раз я был среди своих) на самосуд.].
5
Население юга России делилось на жидов и военных, и когда наконец военным надоело пачкаться и они поголовно уехали в Константинополь и на острова, то, следовательно, на юге России остались одни жиды только, а так как север России, в противоположность югу, был населён жидами исключительно, установившими там омерзительную республику, то теперь так называемая Россия уже окончательно сделалась однообразным, безусловным жидовским царством. Поэтому если кому-нибудь приходилось по неосторожности или просто по старой дурной привычке обмолвиться в местах, подобных «Маяку»[81 - Имеется в виду клуб «Русский маяк», организованный амер. YMCA, в котором были столовая, библиотека, различные кружки, проводились концерты, устраивались вечера, чтение докл. и лекций. Он просуществовал с кон. 1920 по октябрь 1922 г., находился на ул. Бруса, 40. Это место в свой второй приезд в Константинополь посещал будущий парижский друг Зданевича поэт Б.Ю. Поплавский. Критический отзыв о клубе см. в кн.: Зарубежный клич / Ред. А. Бурнакин. София: М. Богданов, [1921]. С. 23.] или «Русскому собранию»[82 - Обществ. – полит. и культурно-просветительная право-монархическая организация с таким назв. существовала в России в 1900–1917 гг. Сведений о её деятельности в Константинополе нам обнаружить не удалось, однако известно, что в годы Гражданской войны предпринимались попытки возродить «Русское собрание» на территории юга России, занятой Добровольческой армией.] и тому подобным, где объединялись перебравшиеся за море военные, сказав: «по последним известиям, в России», или «говорят, что большевики», или «Советы теперь воюют», то подобные обороты речи немедленно вызывали удивление и отпор и заболтавшемуся во избежание осложнений дальнейших приходилось немедленно поправляться, произнося: «по последним известиям, жиды», или «говорят, что жиды», или «жиды начинают войну» и тому подобное. И хотя военные были на самом деле далеко не всегда военными, а в большинстве случаев назывались так или потому, что носили защитного цвета одежду и фуражку, или потому, что в России евреям доступа в армию не было, что еврей вообще не вояка (тем паче, что военные, как выше было указано, не были подбиты, а просто сами уехали от отвращения к противнику), и поэтому это лучшее отличие, чем какое-либо иное, то легко себе представить, каково было положение штатского, ничуть не выдававшего себя за военного, штатского, пытавшегося почему-либо проникнуть в девственную чащу, и в особенности если этот откровенный штатский в какой-либо мере смахивал на еврея.
Однако Сальмон не только смахивал или казался евреем, но был просто евреем, хотя и родился в Штатах[83 - «В Штатах» вставлено в рукописи вместо вычеркнутого «в Канаде», но далее в тексте, возможно, по авторской небрежности сохранено указание на канад. Ванкувер как город детства героя (далее в рукописи его родным городом называется уже амер. Лос-Анджелес). Предшественником Сальмона у Зданевича является Самуил Фелькович (Сам) в «Письмах Моргану Филипсу Прайсу», проведший детство и юность в Ванкувере, перебравшийся в Россию и затем занявшийся разнообразным мелким бизнесом в Константинополе. Далее этот герой будет именоваться Борисом, Владиславом, Митрофаном, Мистиславом, Митридатом, Глебом, Сергеем, Фролом, Олегом Fay, Френкелем, Игорем, Левиным и, наконец, Суваровым (и Суворовым). Возможно, его прототипом является живший в США знакомый Зданевича по Константинополю Иосиф Фельдштейн, упоминающийся в списке людей, которым писатель дарил экземпляры своего романа «Восхищение» (изд. 1930), см.: Зданевич И. (Ильязд). Восхищение: Роман. Изд. 5-е, испр. / Подг. текстов, коммент. и примеч. С. Кудрявцева. М.: Гилея, 2022. С. 282–283.], куда его родители, утомлённые прелестями черты оседлости, тайнами места жительства и прочими принадлежностями коренными российского государства, перебрались на поселение со всеми знакомыми и родичами, несмотря на искреннюю любовь к оному государству. Сыну, родившемуся после этого и названному во имя этой неискоренимой любви и несмотря на отчаянные протесты раввина Русланом, Сальмоны передали не только коверканый русский язык, которым пользовались они в быту, но и эту любовь, и в детстве только и слышал Руслан от родителей, какая замечательная страна Россия, какие в ней государыни императрицы, и как было бы приятно в ней проживать, не будь некоторых ограничений для лиц иудейского вероисповедания и несчастных случаев, называемых погромами. И когда в Ванкувер пришло однажды невероятное известие, что государыни императрицы больше не царствуют и, что ещё более замечательно, наследовавшее им правительство отменило все ограничения для евреев, Борис, вооружённый одной любовью и знанием языка, с благословения глубоко несчастных своих родителей, глубоко несчастных потому только, что возраст не позволял им вернуться в страну обетованную, покинул [Штаты][84 - В рукописи зачёркн. «Канаду», но ничего др. не вписано.], перебрался через океан и заколесил по великой сибирской дороге в направлении возвращённого рая. Приехав на место, он немедленно убедился, что всё не только не хорошо, но, несмотря на исчезновение императриц, значительно превосходит те недостатки, о которых ему говорили родители. Погромы и избиение евреев практиковались в таких размерах, словно в этом и заключалась цель нового строя. Если бы не американская внешность и не такой же паспорт, Борис бы давно разделил участь своих единоверцев. Знание русского языка, чем он до такой степени гордился, было ни к чему, Борис избегал им пользоваться, перебираясь из одной губернии в другую, колеся вдоль и поперёк юга России и натыкаясь всюду на одно и то же положение. Не в состоянии пробиться назад на Дальний Восток, Владислав с остаточками своей любви уехал в Константинополь. Его путешествие совпало с исходом военных.
Обстановка[85 - Вариант: атмосфера.] в русском Константинополе была похуже киевской или ростовской. И однако, странное дело, Митрофан, который, казалось, мог легко из Константинополя вернуться в Штаты или во всяком случае проникнуть в американскую среду, найти себе дело в одном из многочисленных звёздных предприятий, усиленно вгонявших американское проникновение в Турцию, словом, вернуться в воду, в которой он сам, делец и человек трезвый, мог превосходно плавать, Митрофан, к собственному удивлению, стал этой среды чуждаться и вовсе бы забыл о том, что он гражданин Соединённых Штатов, если бы всё-таки деловая сторона его характера не преобладала над стороной сентиментальной. В Америке Митрофан Америку не любил. Здесь он её уже презирал[86 - Далее вычеркнут текст: «Все эти бесконечные миссионеры, приезжающие на Ближний Восток нищими и уезжающие богатеями, вывозя склады преподнесённых им на память ковров и старинной утвари, девственницы, приезжающие по контракту на несколько лет работать в конторах, вкушающие все прелести жизни, умело оставаясь девственницами, и в таком состоянии возвращающиеся домой, чтобы, успокоившись, скромно выйти замуж, все эти манеры военного времени, бывшие приказчики, ничего не приобрётшие военного, но бойко торгующие сомнительными чеками и скупающие за бесценок каменья и деятельно содействующие падению местных денег, все эти общества молодых христиан, прочие не менее лицемерные организации, прикрывающие распространение американского керосина…» В этой части текста помечено: особая глава.]. Всю эту свору, спущенную на Ближний Восток после Версаля[87 - Имеется в виду Версальский мирный договор (28 июня 1919 г.), официально завершивший Первую мировую войну. Но установление союзниками, прежде всего англичанами, контроля над проигранным Турцией Ближним Востоком стало возможным уже в результате Мудросского перемирия (30 октября 1918 г.).], Руслан знал достаточно хорошо и не щадил самых последних слов, отзываясь о своих соотечественниках. Возможно, что тут не обходилось и без раздражения, так как, прибыв в Константинополь, Мистислав[88 - Вариант: Митридат.] обнаружил, что хорошие места все уже заняты, а характер его деятельности мало чем должен был отличаться от прочего хищничества.
И вот, поэтому ли или ввиду остаточков любви к далёкой России, если бы ему пришлось самому ответить на этот вопрос, он не ответил бы ни в каком случае, Митридат решил проникнуть в русскую среду. Его появление в «Маяке» было равносильно вторжению оставшихся там, на Севере, в очищенную среду. Митридата не убили, но просто спустили с мраморной лестницы и, может быть, изувечили бы, если бы возмущённый Глеб не извлёк звёздного паспорта. Потерпев подобную неудачу, Глеб, преодолев всё своё отвращение, отправился в американское посольство, в Союз молодых христиан и прочие злачные, как он выражался, места, преисполненные самыми удивительными и человеколюбивыми прожектами помощи русским, и его настойчивость, деловитость и дальновидность были таковы, что посольство и прочие филантропические учреждения решили русским беженцам в конце концов пособить и поручили организацию соответствующих бюро Митридату. И сколь военные ни были возмущены, что им навязали хотя американского, но всё-таки еврея, во власти Митридата была и подмоченная мука, и старое, собранное в Штатах для бедных платье, и бидоны бесплатного керосину, и многие прочие совершенно баснословные вещи, и военщине пришлось в конце концов поступиться последней своей гордостью и обратиться к Митридату за помощью. Так наступил конец света, и жид овладел землёй без остатка.
Что за невероятное и необъяснимое противоречие? Как всякий порядочный американец, Митридат начал свою благотворительную деятельность, чтобы делать дела, но вместо того чтобы делать дела, которые приносили доход, он непременно хотел делать дела с русскими. А какие дела могли быть с этой выброшенной за границу толпой нищих, или во всяком случае ближайших нищих? Скупать у них драгоценности? И Митридат открыл и лавку, и ссудную кассу, и аукционный зал. А так как публика могла не знать адреса, где находятся эти спасительные учреждения Митридата, то Митридат немедленно обзавёлся целой армией всевозможных агентов из восточных, проникновение которых было в русскую среду беспрепятственно, и эти посредники должны были с таким усердием из этой среды выкачивать всё стоящее внимания, с какой сам Митридат снабжал лагеря и общежития американской мукой и остатками американских стоков, за счёт собранных в Штатах в пользу русских беженцев средств. И какой только ерундой он не занимался, какую только заваль не скупал у этих беженцев, вместо того чтобы торговать автомобилями, керосином или играть на понижение. Сказать, что у беженцев, когда они покинули юг России, уже ничего нужного не было, достаточно, чтобы определить, что скупал Митридат. Обручальные кольца, нательные кресты, поношенные меха, старомодные брошки, убогие серьги, подстаканники, столовое серебро, фотографические аппараты и так далее. Затем пошли почтовые марки. Обилие всяческих частных эмиссий, к которым европейские коллекционеры сперва отнеслись с доверием, делало этот товар занимательнее серёг и подстаканников. Для торговли этим товаром Митридат открыл специальную лавку. За почтовыми марками дошла очередь до денежных знаков[89 - Прообразом этой лавки послужила меняльная контора П. Жемчужина и Серебрякова из повести Зданевича, см.: Ильязд. Письма Моргану Филипсу Прайсу. С. 119–120.]. Митридат стал хозяином толкучки.
Здесь он действительно господствовал, и безраздельно. Сняв половину греческой прачечной, Сергей ушёл с головой в это дело, выгоды коего казались более чем сомнительными. Он устанавливал цены на эмиссии, создал особую биржу, коей руководил по своему усмотрению, понижал сегодня верхнеудинские рубли, а завтра повышал колчаковские, затем колчаковские падали, зато в спросе были так называемые жуки, за жуками шла очередь моржей и тому подобное. Этакая деятельность заставила Фрола войти в сношение не только с рядовыми беженцами, где у него были уже прочные друзья и защитники, но и верхами белого командования, а потом и разными прочими беженскими правительствами, горским, грузинским, армянским и так далее, находившимися в Константинополе, получая необходимый ему товар из первых рук, заботясь о притоке нового, измышляя новые способы сбыта и приобретения и так далее. И в ту минуту, когда Ильязд готовился наброситься на Синейшину[90 - Это новое наименование Алемдара перекликается с употребляемыми по отношению к нему эпитетами «синеглазый», «синий», «голубой». Известен сходный неологизм В. Хлебникова, использованный в ранней редакции ст-ния в прозе «Зверинец» (1909), где «красивым синейшиной» назван павлин, см.: Письмо В. Хлебникова к В. Иванову от 10 июня 1909 г. // Хлебников В. Неизд. произв.: Поэмы и стихи (ред. и коммент. Н. Харджиева). Проза (ред. и коммент. Т. Грица). М.: Худож. лит-ра, 1940. С. 356. В первой публ. «Зверинца» в сб. «Садок судей» (1910) Хлебников заменил «красивого синейшину» на «синего красивейшину». Отсылкой к этому тексту Хлебникова может являться и характеристика сцены в Айя Софии в момент её захвата ряжеными островитянами как «невероятного зверинца» (гл. 10, ср. также алемдаровский «удивительный зверинец» из бывших тур. пленных в гл. 3).], последний, покинув вдруг группу солдат, с которыми он говорил, поспешно вошёл в магазин, на витрине которого было написано чёрными обведёнными золотом буквами: «Фрол[91 - Вариант: Олег Fay.], покупка и продажа почтовых марок и бумажных денег»[92 - На обороте одной из страниц рукописи автор даёт др. вариант этой вывески: «Суворов, покупка почтовых марок и денежных знаков по наивысшим ценам. Говорят по-английски».].
Ильязд ворвался следом. В прачечной, где он оказался теперь, хлопотало несколько увесистых женщин, а в углу, близ входа, стоял стол, за которым в плетёном кресле восседал обыкновеннейший человек, но с видом таким уверенным, будто действительно он был занят каким-либо важным делом[93 - Судя по записям на обороте одной из страниц рукописи, встреча Ильязда с этим героем происходит 15 декабря, т. е. через месяц после его прибытия в Константинополь.]. Так как вывеска была английская, то Ильязд обратился по-английски, прося сидящего осведомить его, куда делся русский верзила, только вошедший в лавчонку. Но сидящий, не отвечая на вопрос, длительно осмотрел Ильязда и спросил в свою очередь:
– А почему, в сущности, этот верзила вам нужен? – вызвав Ильязда на длительную и горячую исповедь. И по мере того как Ильязд говорил, не в силах остановиться, сидящий, внимательно слушавший и отсылавший прочь то и дело врывавшихся русских, предлагавших товар, крича:
– Зайдите через полчаса, видите, я ужасно занят (это уже по-русски), – приходил в состояние всё большего восхищения, пока наконец не перебил Ильязда:
– Действительно, я вас очень хорошо понимаю, вы должны встретиться с великаном, я всё устрою, но вы сами для меня исключительная находка, отныне вы принадлежите мне, исключительно мне, пойдёмте отсюда, здесь нам мешают, – расстался с креслом, выбежал на улицу, подозвал к себе какого[-то] белогвардейца, объяснил ему что-то на чудовищном языке и, увлекая Ильязда, бросился вверх по базару в направлении Пера.
– Успокойтесь, успокойтесь, – кричал он на ходу, – я его вам найду. Я всё устрою, всё сделаю для вас. Я, Олег, вам обещаю, а знаете, что значит, когда Олег обещает что-либо?
Но когда они забрались после продолжительного бега в кофейню, Олег, не перестававший в течение всей дороги повторять:
– Успокойтесь, я, Олег (с ударением на «о»), вам обещаю, – Олег внезапно умолк и, усевшись, уставился на Ильязда, глядя на него с мучительным напряжением. Смущение Ильязда, потрясённого в одинаковой мере встречей с Синейшиной и с этим красавцем, было настолько велико, что он сперва разболтался, потом дал увлечь себя и теперь глупо молчал, позволяя Олегу таращить на него не то зелёные, не то коричневые глаза. Наконец, после продолжительного раздумья, лоб Френкеля вдруг разгладился и на лице его засияла улыбка неистощимого самодовольства, озарявшая его во время изъяснений Ильязда в лавке:
– Вы не представляете себе, до какой степени забавно всё, что вы мне рассказали о вашей встрече с высоким турком. Но я делец совершенно, и если теряю время на беседу с вами, то потому только, что вижу во всём этом возможность дела. У вас есть личные соображения, которые я уважаю, но до которых мне нет дела. Вы ими можете не поступаться. Но я вас беру на службу и не скрываю от вас, что вы для меня совершенно исключительная находка. Помилуйте, вы не дурак, явление в Константинополе чрезвычайно редкое, вы русский, избегающий русских и потому от них не зависящий, и, наконец, вы всё-таки русский, но изъясняющийся по-английски, и можете мне служить переводчиком и проводником, так как если бы вы знали, каким языком наделили меня родители, каким языком, – закончил он с искренним горем в голосе.
– Вы меня берёте к себе в секретари? – осведомился Ильязд.
– В секретари? Нет, что вы, ваша служба должна заключаться в том, что вы по-прежнему не будете ничего делать, то есть по-прежнему будете вести тот образ жизни, который вы ведёте там, в Софии, и только, я от вас больше ничего не требую, время от времени мы будем встречаться, вы будете меня развлекать вашими невероятными рассказами, и только.
Поймите, чудак вы этакий, дельцы мне не нужны, я сам делец, мне нужны чудаки, такие вздорные, как вы, а таких, как вы, я ещё не видывал. Синие глаза, церковная архитектура, язык цветов, «Девяносто пять». Какие это перлы, какие изумительные перлы. Барнум[94 - Финеас Тейлор Барнум (1810–1891) – знаменитый амер. цирковой антрепренёр, мистификатор, шоумен и политик. Был фактическим зачинателем совр. коммерческого и политич. пиар-менеджмента и зарабатывал на своих манипуляциях колоссальные прибыли.] составил себе порядочное состояние, а в его учреждении не было ни одного такого феномена, как вы. С какой луны вы свалились? Ах, впрочем, не всё ли равно? Россия, Россия, удивительная страна, только она может производить таких феноменов.
Вы не обижаетесь на меня, надеюсь, что я вас приравниваю к уродам? Вы отлично понимаете, – продолжал Олег с яростью в голосе, – что вы душевный урод и достаточно умны, чтобы усмотреть в этом обиду. Будем называть вещи своими именами. Но предупреждаю вас, не думайте, что я, находя вас забавным, предполагаю забавляться на ваш счёт, предлагаю вам играть роль шута. Нет, я делец, я извлеку из вас не одно дело без всякого для вас ущерба и обиды. Вы остаётесь самим собой, и только. И только, и только, – повторил он ещё два раза, отвечая себе на свои мысли.
Ильязд вспомнил о свиных зубах в кармане, об улочке Величества и почувствовал невыразимую скуку. То, что он нуждался в деньгах, так как скудные средства, которыми он располагал, были на исходе, и даже, живя на всём готовом и на иждивении у Хаджи-Бабы, Шерефа и Шоколада, надо было всё-таки что-то зарабатывать, – сделало эту скуку ещё острей. Почему он должен был принять предложение, такое унизительное и фальшивое, этого торговца воздухом? Почему это предложение было облечено в такие недопустимые и потому подкупающие Ильязда формы? Он допил кофе, всё без остатка, вместе с гущей, покачался на стуле, смотря в сторону, и громко вздохнул.
– До чего вы чувствительны, – воскликнул не перестававший наблюдать за ним Борис, – уже омрачились, забудьте, забудьте, не вспоминайте о том, что я вам сказал!
– Дело не в чувствительности, – наконец проговорил Ильязд, преодолев странную лень. – Я не хочу чувствами отвечать на ваш деловой подход. Вы предлагаете мне договор, суть которого мне неясна, и в котором таится несомненный подвох. Но я не боюсь вас, мой дорогой, так как нет ничего в мире, что бы могло одолеть моё своенравие. И чтобы вам это доказать, что я, как всякий порядочный человек, готов на что угодно, если только вы платите, я принимаю ваше предложение на условиях взаимности: не забудьте, что я попал к вам в поисках турка, выдающего себя за русского, и которого вы должны знать, так как он скрылся у вас и торгует бумажными деньгами. Я принимаю ваше предложение ничего другого, кроме того, что я делаю, не делать, если вы обяжетесь взамен, чего вы избегаете, пойти и разоблачить этого негодяя.
Еврейчик расхохотался завидным смехом:
– Сумасшедший, настоящий сумасшедший, готов продаться в рабство из-за какого-то турка. Но, впрочем, вы же совершеннолетний, знаете, что делаете. Отлично, отлично. Я не только не уклоняюсь от поисков, но готов с вами приняться за них немедленно, в Стамбуле вас подождут, вот пятьдесят лир, это в счёт вашего жалования, идемте пока обедать…