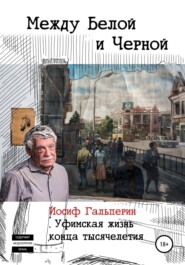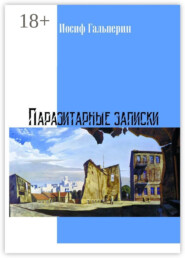По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шведская штучка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вот в эту-то правильную, идеологически выдержанную квартиру Ефим Срулевич стал приводить знакомых, которых он в большом городе легко обрел, пользуясь наслушанной эрудицией и репутацией всемирно-известного эсперантиста, и вел с ними долгие громкие беседы на кухне. Яшина мама сердилась вдвойне: дед Фима не сидел с ребенком, ради чего его вызвали, а вместо этого опять ставил под угрозу карьеру сына. Вдруг охранник Саша стукнет начальству!
Ефима Срулевича попреки разгневали. Он собрал манатки и вернулся к родной «Балтике». А потом прислал письмо, в котором сообщал неблагодарным детям, что решил полностью взыскать с них стоимость пианино «Октябрь», но принимая во внимание трудности их жизни (маленькие зарплаты и болезни детей), готов получать деньги по частям, ежемесячно. И пошли переводы из одного города в другой. А когда однажды в срок не попали, поскольку в редакции задержали расчет, то тут же пришла недоуменная телеграмма, пришлось объясняться и извиняться.
Выплатили все до конца, успели до смерти Ефима Срулевича. А незадолго до смерти он прислал письмо, в котором очень хвалил за прогрессивную правду публицистическую книжку Яшиного отца, признавался в любви к Юльке и называл Яшину маму настоящей еврейской женой и матерью. Главное сказал.
Яша с отцом полсуток мчались на редакционном газике, когда стало известно, что Ефим Срулевич не встает. Отец молчал, а Яша разглядывал пейзажи, впервые для него так долго и широко раскрывающиеся перед лобовым стеклом. В больнице их пустили в палату. Дед Фима был еще жив, но обречен: его изношенное сердце помогала добивать кишечная непроходимость. Яша смотрел на его раздувшийся живот и ничего не понимал.
Tiger, tiger…
Румянец, как выяснилось в разговорах спустя десятилетия, выделили все. Не только художник Володя Иванов, который умудрился его обозначить на портрете пером и тушью. Вот и я первым делом заметил его на лице девочки, проскользнувшей, как бы не касаясь общежитского гомона, с лестницы мимо кухни в свою комнату. Далеко идти не надо было, несколько ее длинных шагов, но румянец, непохожий на московскую бледность, успел отметиться. Ага, комната почти напротив нашей.
Люба ее зовут, Любушка – это подруги потом сказали, когда я, уже знакомый с ними, пришел в эту комнату после новогодних каникул. Имя какое… Ответственное. Почти фольклор. Тут не запросто. С Веркой, ее соседкой и «своим парнем», можно было не задумываться о тональности, а с этой… Вон как легко, хотя и не торопясь, отвечает на реплики, не понять только – насколько глубока ирония, что за ней: насмешка, неприятие, может, приставания общежитские противны, недаром никто не видел, чтобы она общалась с кем-нибудь за пределами комнаты в эти первые полгода нашего курса. Наверно, у нее, такой яркой, интересные московские знакомства.
Красива настолько, что даже мысли не возникает примериться. Смоляные брови параллельно таким же вразмах смоляным волосам, почти горизонтально парившим, несмотря на явную тяжесть, над землей и, кажется, над нами. Зеленые глаза, смотрящие прямо, а то и насквозь. Сибирячка? Как в песне – бирюсинка? Еще дальше – Яблоновый хребет. Становой. Вот-вот, подходящее название. Крепкая, гибкая, переходя в метафизику – становая, главная, что ли, в любом случае – обязывающая. Пушечные колени, как длинные стволы и закругления старинных пушек. Ну явно не для меня. И дело даже не в робости или неверии в собственную удаль. Понимал, что рядом богатство, а какое я к нему имею отношение, – нет. Видно же, что жизнь у нее совсем другая.
…Я писал об этом коротко в «Страдательном залоге», возвращаюсь, как бывает, когда еще раз хотят объясниться, разобраться в чувствах. Тогда, с одной стороны, представлял, что для меня первая физическая близость – это железный шаг к женитьбе, хотя опыт наблюдений над соседями и соседками убеждал в наивности представления. С другой стороны, был готов отдать себя чужому человеку, лишь бы он сказал, что я ему очень-очень нужен. Но вот действовать, не загадывая, раскрывая в себе и в другом человеке то, о чем умозрительно не предполагал, – не был готов.
А может, просто не созрел для полноценного любовного желания, когда не гормоны требуют близости, а радость узнавания подталкивает и освобождает. Одно дело – целоваться со школьной еще подругой, которую долго искренне считал невестой. В рамках роли она и сама не хотела переходить грань, и меня не допускала. Или, например, как бы шалеть (шалить?) от факультетских разбитных барышень, доставлять им нужные радости, ни на что не претендуя и ничего не требуя, всегда готовый отступить, не сильно обижаясь. С Любой – очевидно особый случай. Человек самодостаточный. Решающий сам, что, кто и зачем ему нужен. Придется взаимодействовать, безо всяких задуманных ходов и гарантий наперед…
Но поговорить-то хочется! Особенно после того как сожрал, пользуясь Веркиной благосклонностью, здоровый пласт красной рыбы – Верка не сказала, что рыба Любина, амурская. Еще и высказался по поводу оставшейся от куска шкуры, что, наверное, из нее обувь шьют. Неловко? Пропадать – так по полной! А я вот клубничное варенье до того уважаю, что могу банку, не отрываясь от горлышка, одним духом выпить. Что, и варенье Любино? Тем более!
Ягоды оказались крупнее, чем представлялось через стекло банки из-под венгерского лечо, глотать трудно, давился, да и банка большая. Выдержал. Минут пять посидел, задерживая в себе выпитое, а уж потом рванул в туалет. Но открыто вроде никто не засмеялся. Значит, можно продолжать общение. Без взаимных обязательств.
Хотя, как обреченный, пошел за нее драться с приставшим Ибрагимом, тот выглядел явно более сильным и умелым. Но – «Не могу молчать», как принято у русских писателей! Ибрагим спросил: «Твоя девушка?», а я даже не сообразил ответить, какое его дело, и что вообще у нас не принято внаглую тянуть за руку малознакомых людей. А он перестал многозначительно разминать кулак, принял мое молчание за согласие и уважительно отступил. Даже и тогда я не подумал о Любе, как о «своей девушке».
Дошло до того, что принялся ее «сватать» своим, настоящим ребятам. Говорил Вовке (Кузьмищеву, он сейчас очень болен, пишу его фамилию, стараясь закрепить его среди нас, добавить сил): ты посмотри, какая! Замечал, говоришь, ее румянец? Хочешь, познакомлю, у меня-то с ней ничего серьезного не получится. И пришли мы втроем в «Казбек», была такая отличная шашлычная внизу кинотеатра повторного фильма у Никитских ворот, даже лучше «Эльбруса», на который с другой стороны улицы Горького искоса посматривал медный Пушкин. Взяли «по-карски» и «мукузани», не очень много говорили, Вовка внимательно нас разглядывал, как потом выяснилось, чего-то такое заметил. Вернулись на Ломоносовский и разошлись по комнатам, мы с Вовкой в одну, Люба – напротив…
Январь (а это ее месяц, 21-го родилась) был настоящим, метельным, гулять и разговаривать было хорошо: снег кружащейся сеткой, такой как у Шуховской башни, отделял от посторонних, зажигал румянец. И этого огня хватало для поддержания радости. А радовала литература. В своем Экимчане в библиотеке она выделяла те же книги и журналы, что и я в Уфе. Из молодых – Аксенова, Шукшина, Маканина, из вновь открывшегося – Бабеля, Платонова, раннего Эренбурга. В общих любимых книгах мы находили общий стиль отношений: прямой, но не эгоистичный.
О стихах говорила скупее, если кого и выделяла, то не чувствительных поэтесс, а пряное, крепкое. Становое. О чем я и не подозревал. Блэйка. «Тигр, о тигр, светло горящий в глубине полночной чащи, кем изваян огневой, соразмерный облик твой?» – так запомнилось, но это перевод, она произносила по-английски: «Tiger! Tiger! Burning bright…»
А я ей читал из переписанных в тетрадки запретных «Жемчугов» Гумилева, из сборника павших поэтов – Павла Когана, честные и романтичные, страшные предвоенные (и смутно протестные, вроде бы, и про наше время) строки из его недописанной поэмы: «Мы кончены, мы отступили… а век велел – на выгребные ямы…» Вознесенского она иногда помнила точнее, чем я. Новеллу Матвееву могла очень чисто пропеть. И еще мы вместе вдумывались в строки Мандельштама, запоминавшиеся с первого прочтения машинописных размытых копий, ходивших по общежитию.
Почему-то, несмотря на наглядный избирательный ее вкус, я совсем не боялся читать свое. Потому что ничего не добивался! Не хотел понравиться, а старался предложить, что имею, в ответ на ее явные ценности. Она любила кино, в таежном Экимчане не пропускала ни одного фильма, очень по-своему, с добавкой звериной пластики, показывала танец разбойников из «Айболита». Тигр! Амурский.
Ходили долго и далеко, чтобы наговориться. Темнело рано, да еще метель, так что возвращались совсем отделившиеся от мира, в коконе снега, заполночь. Но обычно не мерзли, как мне казалось, несмотря на ее легкое пальтишко, совсем не таежное. От «Литвы» один раз добрались до Матвеевского (давно уже шел февраль – мой месяц). Пустая платформа без электричек (поздно?), мостик над Сетунью, по речке под крупноячеистой сеткой снежных хлопьев, важно и степенно, переговариваясь, парами плавали утки.
И мы на обратном пути впервые взялись за руки. Согреться.
Зазноба
– Дочкина мама приехала!
Ну вот, вспоминается бессмертная фраза Свята. Когда он спланировал из окна второго этажа прямо на дорожку перед входом в малометражное общежитие на Ломоносовском, то тоже слету про маму сказал. Мы с Верой как раз подходили, так что видели все стадии полета. Приземлившись после почти профессионального десантного прыжка, он выпрямился и, слабо похохатывая, объяснил: «К Идхен мамаша пожаловала». Мы вообще-то догадывались, что они запираются в пустой комнате, где на время каникул свалены голые матрасы. Сразу представили себе, как мама Иды Гесс, с сумками после утомительного рейса из Караганды и долгих поисков по этажам, уговаривает добропорядочную немецкую девочку открыть дверь, а та возится с ключом, пока Свят одевается и готовится к прыжку. После того случая вся наша «шаланда», обученная Святом правильно сгибать ноги перед посадкой, хотя бы по разу попробовала повторить его полет.
Прошло два года. И вдруг сейчас кодовую, все объясняющую и тревожную фразу произнесла Вера.
– Сходил бы, поговорил.
Конечно, как «дочка» – так обоих, а как заступаться за Наташку – так «папа». Папаша! Я тоже из младших на курсе, но Наташка – вообще сосунок. Сейчас ей, конечно, уже девятнадцать, тонкая девочка с выразительными формами, а все равно воспринимаю ее именно как дочку. Как тогда, когда по трубе и карнизу влезал в окно на нашем втором этаже в Верину комнату, а Наташкина кровать была под подоконником, и я шептал, готовясь ее перешагнуть: «Вера, закрой Наташку, простудится». Недавняя школьница, оказывается, тогда была недовольна моей реакцией на ее наготу. Но нашу с Верой опеку принимала с радостью. Кто-то же должен быть близким в общежитии такой домашней девочке!
– Что, до Ессентуков дошли африканские страсти или это плановый визит?
– Иди-иди, какая теперь разница. Маму зовут Надежда Евгеньевна.
Иду-иду по длинным, широким и низким пустым коридорам зоны «Б». Только в МГУ, построенном зэками и пленными, могли назвать отдельные башенки или стороны главного здания зонами. Как-то давит на глаза вся эта тюремная красота, напоминающая снаружи и внутри египетские погребальные конторы. А может, ответственность гнетет? Что я скажу справедливо взволновавшейся мамаше?
– Здорово, Карим!
Этот афганский лысый пожилой тридцатилетний мужик, один из вождей тамошней компартии, старинный житель нашей общаги, напомнил о недавнем случае с Наташкой. Почему-то ее залюбили наши иноземцы, такую русскую-русскую, как на банной картине Пластова. Почти все – платонически, то ли воспитание препятствовало, то ли ее наивный возраст. Обычно не приставали, но подарки делали. Хасан из Парижа пластинку с эротическими вздохами привез, дал послушать, видимо – для ускоренного взросления.
Вот ее-то и напомнил Карим. Правда, пластинка возбудила не афганского коммуниста, тихо избивавшего свою жену до синяков, а наоборот, афганскую же принцессу, воспитанную в гареме. Гостья, заглянувшая на звук, раз за разом ставила пластинку, кружила по комнате. Когда заскучавшая Наташка вышла, принцесса в одиночестве продолжила свой бесконечный танец, распустив руки, как гусыня – крылья. А потом принялась раздевать вернувшуюся русскую хозяйку и хватать ее за грудь. Наташка хихикала, уворачиваясь, но та шипела и щипалась по-гусиному и все больше входила в раж, пришлось звать на помощь. Вбежал Юрка Колманович, с порога заорал принцессе на знакомом ей матерном языке: «Ты что, мать, одурела?» Принцесса швырнула в него поленом, которое своей выдолбленной верхушкой заменяло в комнате пепельницу, и убежала, вращая глазами.
Юрка под это дело стал Наташку утешать и продолжал давно начатое соблазнение: «Я же тебя так любить буду, как никто из наших сопляков не умеет, всюду-всюду поцелую». Мне не хотелось представлять дочкино тело, поэтому я даже про себя не называл ту его часть, которую конкретно обозначал многоопытный Юрка. «И чего ты в этом негритенке нашла, я же лучше!» – уверял Колманович. А я вот должен убеждать Наташкину мать, что и негритенок – ничего…
Та-ак, сцена выразительная. В большой трехместной комнате все собрались у одной кровати. Наташка почему-то под одеялом, в ногах сидит ее верный Салам, на стуле рядом, в расстегнутом пальто, платок на плечи скинула, прямо с минеральных вод – мама. Пахнет валерьянкой.
– Здрасьте, Надежда Евгеньевна!
Ого, валерьянкой-то от дочки пахнет, а не от матери. Наташку колотит, бьет крупный озноб. Салам, оказывается, не от отчаяния хватает ноги ускользающей невесты, а греет их сквозь одеяло. Все болезни от нервов… И валерьянкой не лечатся. Мать уже и пальто сняла, поверх одеяла набросила, а Наташку все колотит. Говорить-не говорит, но и так ясно, отчего ее знобит.
Приходится говорить мне. Счастье не бывает длинным, а несчастье может не быть коротким. Если ребята хотят идти в загс – пусть идут, если это им кажется сейчас путем к счастью. Никто не даст гарантии, что оно продлится всю жизнь (Салам перестал кивать головой), но вы же видите: она не сможет простить себе – и вам(!), что упустила возможность. А знаете, сколько у нас тут летит ребят из окон высотки? Пацаны, в основном, по пьяни или дури, а девчонки – от несчастной любви. Одна, правда – от рейда комсомольского оперотряда, от которого она пряталась за шторой на подоконнике, отряд ворвался – сквозняком хлопнуло раму, девочка так и полетела голенькой с восемнадцатого этажа. Вы что, хотите, чтобы ваша дочка пряталась от оперотряда? (В третий раз за час вспомнились общежитские окна…)
Лучше уж пусть женятся, глядишь, Салам вернется из своей Танзании на работу в посольство, как ему обещают, будут жить в Москве – и лучше нас всех! Да у нас тут многие флиртуют с иностранцами, не обязательно – из корысти узнать заграничную жизнь, вот Наташкина тезка вышла замуж за Эухенио, а ему в свою Латинскую Америку путь заказан, он там объявлен русским шпионом. Понимаете, это для них – хоть какая-то свобода после общежитских лучших в мире тюремных казематов. Вы должны дочку понять, вы же знаете наших мужиков, а эти вот – внимательные, слова хорошего не жалеют, веселые, не пьют, в конце концов!
Говорю, а вдруг понимаю, что меня-то Наташкин озноб интересует не только от сочувствия, но и как-то филологически. Вот что означает цыганское слово «зазнобило», вот откуда дворовое, барачное, а вовсе не книжное слово «зазноба». Страсть наружу, когда в голову не приходит ее скрывать, когда тоненький голосок первой любви становится гибким и сильным, как шпага, когда дорафаэлевское лицо Наташки с близко посаженными глазами и тонким носом – красивее любой Венеры, хотя и стучит эта красота зубами о край стакана, когда слипшиеся от жара длинные тонкие светло-русые волосы высветляют фоном ее непререкаемое желание, делают его выше и разума, и тела.
Идхен путалась с парнями, потому что считала, что ее, некрасивую толстушку, никто по-настоящему не полюбит, врала себе на секунду. Принцессу крутило по комнате презрение к условностям, привычка исполнять любой каприз, дикость чужого всем – и своим соплеменникам! – человека. А Наташка по-русски поверила в судьбу, ее страсть даже физиологией не объяснить. Откуда у девятнадцатилетней необоримая тяга к мужчине? А что – мне Андрюха все подробно объяснял, Андрюха дело знает, он даже рисовал всей «шаланде» графики, чтобы совпадали пики наслаждений у женщин и мужчин. Так что недаром Наташку не заманили Юркины обещания невиданных удовольствий. Этот же, ее первый, курчавый, ведет ее за собой – потому что видится единственным.
Поэтому и загс, а не затем чтобы не прятаться от оперотряда. Комендант общежития перед нашей с Верой свадьбой мечтательно напутствовал, «вы теперь сможете говорить друг другу любые непристойности». Открываться до донышка – в его понимании. Не бояться реакции другого человека, не стыдиться своих причуд – если обобщить…
А если конкретно, то Вера? Она так может чувствовать, как Наташка? Не было меня полгода, в общаге пьянка по случаю моего приезда, уединиться негде, пошли под вечер на бульвар. Иван увязался за нами, все рассказывает, читает новые стихи, трубно спрашивает мнение, не понимает, почему я его гоню, обещаю скоро вернуться и почитать свое, но потом! Вера идет рядом, не поднимая глаз… Рука ее дрожала! Я остановился, толкнул Ивана в канаву, он с недоумением смотрел оттуда, как мы бежим, взявшись за руки, как перелазим через забор ботанического сада. А потом около наших замеревших лиц деловым шагом садового сторожа прошел еж… На следующий день мы отнесли заявление на Фрунзенскую набережную. И Иван через месяц напился на свадьбе…
Не знаю, может это я дрожал, а Верина рука просто была в моей руке. Кто тут для кого «зазноба» – у мужчин и женщин, наверное, и дрожь по-разному.
Уже потом, тридцать лет спустя, я узнал, что отец признавался в письмах, как в молодости дрожал, глядя на маму. Или это она рассказывала… Или это про них знакомые говорили…
А Наташка, правда, быстро развелась. Салам в Москву после диплома не вернулся, она в Африку не захотела. Вышла замуж за другого, отечественного, родила от него двух дочек. А потом тоже развелась. Не судьба.
Лапа
Помнишь тех стариков в окне полуподвала? В кривом переулке желтые дореволюционные дома, темно, одно это окно и светилось, раскрывая старый московский цвет. У края окна стоял старик в белом полотняном белье, нас снаружи, в темноте, не видел, а внутри, не оборачиваясь, знал, где старуха. Он разговаривал с ней на идише, точнее, говорила она, в белой полотняной рубахе расстилая постель, а он отвечал привычными короткими репликами.
Мы почему-то смеялись, глядя на этот театр теней, очевидно, как в недалеком от нас детстве, было радостно, что нас не видят, а мы – видим. Наша жизнь, пусть сейчас и в темноте, но не ограничена стенами, а их, яркая и бедная, вся на ладони. Такая маленькая осталась…
Что же я, хочу сразу тебя запереть в нашу маленькую жизнь? «Мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем…». Нет, конечно, езжай в этот Калининград: море, областная газета… Полтора месяца практики. Жаль, что их мы вычтем из тех месяцев, что у нас получились бы вместе в этом году. Ничего, наверстаем. Велела Люба не грустить – и не грущу…
С вокзала уже один, в эту коммунальную квартиру напротив американского посольства, где нам было так хорошо у Лики. Хотя, сравнивая уровень жизни в ее комнатках с уровнем жизни, представленным напротив, мы говорили, что подземный переход через Садовое кольцо – это переход от военного коммунизма к капитализму.