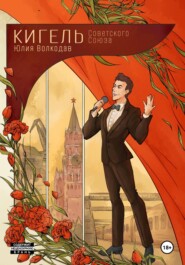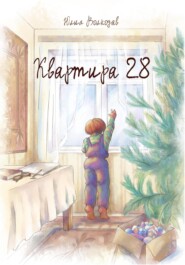По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лучанские
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сгущёнка, сливочное масло и яблочное повидло? Странный набор.
– Почему странный? – в свою очередь удивилась я. – Это на трубочки.
– Какие ещё трубочки?
Яша на тот момент сидел с какой-то поэмой, которую ему заказали к завершению очередной пятилетки. Поэма шла туго, Яша нервничал и слушал меня невнимательно.
– Песочные трубочки с начинкой из сгущёнки или яблочного повидла – на выбор. Это традиционное новогоднее блюдо в нашей семье. Мама на каждый Новый год пекла трубочки.
– А… – Яша озадаченно кивнул и пожал плечами, убирая список в портфель. – Ну ладно, трубочки так трубочки.
– А какое новогоднее блюдо готовили в твоей семье? Расскажи, я его тоже приготовлю.
Да, в те годы я была очень хорошей и милой девочкой, которая очень хотела угодить. И пыталась строить отношения, как умела, как могла. Мне казалось, нам надо найти как можно больше точек соприкосновения, объединить наши семейные традиции и создать новые, чтобы стать ближе. Да, мне много что казалось…
– Не было у нас никакого семейного блюда. – Яша посмотрел на меня поверх очков. – Мы отмечали скромно. Да мы и жили скромно. Я даже ёлки помню только школьные. Отец считал, что деньги можно потратить на что-то более полезное, чем на дерево, которое засохнет и осыплется через неделю.
И снова уткнулся в свои записи. Я тогда чуть не расплакалась. Мне стало так жаль маленького Яшу и его сестёр, лишённых всего, что составляло самые тёплые воспоминания моего детства. Запаха принесённой с мороза и постепенно оттаивающей в комнате ёлки. Шуршания бумаги, в которую обёрнуты хрупкие шары и запорошённые снегом шишки, бережно освобождённые из годового заточения на антресолях. Тишины январского утра, когда ты в пижаме крадёшься к ёлочке, чтобы обнаружить под ней подарок. А потом сидишь, разбираешь новые игрушки, ешь вкусные и редкие конфеты «Мишка косолапый» и чувствуешь себя самым счастливым ребёнком на свете. Ничего этого у Яши и его сестрёнок не было… Это потом выяснилось, что у него и сестёр было нечто большее. Что дело не в «Мишке косолапом».
Я так подробно останавливаюсь на Яшином детстве и постоянно сравниваю его со своим, потому что пытаюсь найти истоки того характера, который определил не только жизнь знаменитого Якова Лучанского, но и мою жизнь. Возможно, я ищу ему оправдания. Потому что, если я буду обвинять его во всём, что случилось со мной, каждая читательница задаст логичный вопрос: «Но почему же ты жила с таким чудовищем? Почему ты не развелась? Почему сейчас ты сидишь и молишься всем богам, в которых не веришь, чтобы он выздоровел? Любишь? За что?» В случае с Яшей следовало бы ответить, что вопреки. Его можно было любить только вопреки.
Яша внезапно открыл глаза и попытался сесть. Я подсунула подушку ему под спину, чтобы он мог опереться.
– Ты чего? Потерпи немного, сейчас придут врачи.
Я сама не верила в то, что говорила. Ну придут они, и что? Тимур уже приходил, какой от него толк? Если бы они знали, как лечить чёртов вирус, они бы уже лечили! Но я делала то, что привыкла: утешала и успокаивала.
Мне кажется, в сидячем положении ему стало легче дышать. Честно сказать, в тот момент он представлял собой жалкое зрелище. Наверное, и я выглядела не так, как меня изображали на обложках глянцевых журналов в специальных выпусках к юбилеям Лучанского. Но себя я хотя бы не видела со стороны. А Яша мало напоминал того человека, за которого я когда-то вышла замуж. У него запали глаза; седые, вовремя не подстриженные волосы торчали в разные стороны. Он собирался пойти к парикмахеру сразу после гастролей. Мастер, к которому он ходил уже лет десять, должен был подстричь его и подкрасить. Он красился реже, чем я, примерно раз в три месяца. Его седина только украшала, добавляла благородства. Но не сейчас. В человеке, которому не хватает кислорода, ничего благородного не остаётся. Просто ужасно наблюдать, как мы становимся слабы и беспомощны, лишаясь какой-то из базовых функций. Как мы жалки в попытках сохранить существование. Ты можешь быть великим поэтом, трижды заслуженным или народным, обласканным всеми правителями, награждённым государственными премиями. Но без достаточного поступления кислорода, измученный кашлем и температурой, ты будешь выглядеть точно так же, как дед-алкоголик, подхвативший воспаление лёгких после ночёвки где-нибудь под забором.
Дверь палаты открылась. Их было семеро, разного возраста, разной комплекции. Не знаю, почему я обратила внимание на комплекцию – наверное, потому, что медик, зашедший последним, был большим и грузным, похожим на медведя. А в нашей палате и так не хватало места. Они все еле уместились возле Яшиной кровати. Мне пришлось пересесть на свою.
Они его мучили недобрых полчаса. Раздевали, слушали, смотрели результаты анализов, что-то обсуждая. Я не могла разобрать их слов – респираторы приглушали звуки, а они стояли ко мне спиной, окружив Яшу. Потом тот, медведеподобный, подошёл ко мне:
– Ольга Александровна, мы считаем, что вашего мужа надо перевести в реанимационное отделение. У него нарастает одышка и падает сатурация. Мы подозреваем отёк лёгких.
Я не помню, что почувствовала в тот момент. Наверное, ужас. Помню, как похолодели руки. Как ухнуло что-то в груди. Потому что я знала, что означают их слова.
У отца случился инсульт как раз накануне пятой годовщины нашей с Яшей свадьбы. Это произошло на работе, и, что удивительно, отец сам добрался домой. Наверное, поэтому мама не поняла, что на самом деле произошло. Да, закружилась голова. Да, стало плохо, даже стошнило. Но потом он взял служебную машину и приехал домой. Он разговаривал, у него не перекосило лицо. Выпил таблетки от давления и головной боли и лёг отдыхать. Мама, конечно, вызвала врача. Не по скорой, а обычного, участкового врача. И он согласился с мамой, что у отца гипертонический криз. Выписал больничный, и папа лежал дома, смотрел телевизор, по случаю его болезни переставленный из зала в спальню, даже читал газеты.
Через несколько дней отцу стало хуже, и вызванная скорая всё-таки увезла его в больницу. Мы с мамой по очереди ходили к нему, навещали, носили бульон в баночке и домашние пирожки. На третий день меня встретила нянечка, которая сказала, что сегодня пирожки не потребуются, потому что отца перевели в реанимацию и туда никого не пускают. Больше я папу живым не видела.
Так что в моём сознании слово «реанимация» означало только одно… «Да, это просто старая травма», – повторяла я себе.
– Ольга Александровна, там лучше условия для него, понимаете? Там круглосуточный пост, наблюдение медиков. Чтобы мы могли, так сказать, вовремя отреагировать, если что-то пойдёт не по плану… Оказать более эффективную помощь…
Медведеподобный забалтывал меня, а я его не слышала. Я вдруг вспомнила, что в реанимации нельзя вставать. И что там лежат без одежды. И в одной палате много людей. То есть Яков Лучанский, голый, будет лежать на обозрении кучи людей и ходить в туалет под себя?!
– Ольга Александровна! Ольга Александровна, успокойтесь, всё будет хорошо. Мы просто перестраховываемся, понимаете? Это буквально на один-два дня. Давайте-ка я вам сделаю укольчик, который поможет вам успокоиться…
Я не помню, что произошло дальше. Когда я проснулась, Яши рядом уже не было. Я нашла в себе силы встать и дойти до туалета. Не потому, что требовалось. А чтобы быть уверенной, что никто случайно не войдёт и не увидит, как Ольга Лучанская ревёт над раковиной.
***
Я совершенно забыла, что тоже болею. Когда на пороге появилась медсестра, я замерла от ужаса. Мне показалось, она пришла, чтобы сообщить мне какую-то ужасную новость о Яше. Поэтому, когда она мне улыбнулась, я чуть не заревела снова.
– Ольга Александровна, что с вами? – оторопела Марина.
– Что с Яковом Михайловичем? – с трудом выдавила я, не уверенная, что хочу услышать ответ.
– Я не знаю, это же другое отделение.
– А зачем вы пришли?
– Померить вам температуру и сделать укол. Антикоагулянты, два раза в день. И вот эту таблетку нужно выпить.
Она протянула мне лоток с таблеткой. Я знала, что нам дают «Калетру», препарат для ВИЧ-инфицированных. Звучит ужасно, но на деле просто голубая таблетка небольшого размера. Даже я, человек, далёкий от медицины, понимала, что, если нет испытанного протокола лечения, нужно стимулировать иммунитет в надежде, что организм справится сам. Ещё утром мы с Яшей выпили по точно такой же таблетке. Но почему я уже даже забыла, что болею, а он оказался в реанимации?
Ответ был очевиден. Он старше на пятнадцать лет. К тому же его организм уже был измучен гастролями, концертами, долгими перелётами и сменой часовых и климатических поясов. Да, я летала вместе с ним, но, во-первых, я не выходила на сцену, а отдыхала в зрительном зале. А между концертами отлично проводила время с подругами, жившими в Париже. Во-вторых, перед парижскими гастролями у него был тур по России, концертов шесть или семь. Не так уж много, в советские годы он мог уехать на месяц. Но для него сегодняшнего это уже тяжело. Два часа общения с залом один на один, чтения стихов, ответов на вопросы, рассказов. Тяжело эмоционально, тяжело физически. Я столько раз просила его поменьше работать, но разве он меня слушал? Он всегда поступал так, как считал нужным.
– Я узнаю, как Яков Михайлович. Если будут новости, сразу вам сообщу. – Марина снова мне улыбнулась через стёкла защитного костюма и исчезла за дверью.
Щёлкнул магнитный замок. Как это унизительно, когда тебя запирают. Мы с Яшей оказались как будто прокажёнными, словно попали в фильм-катастрофу, которые были так популярны в девяностые. От нас шарахались врачи частной клиники, куда мы приехали, почувствовав недомогание. Мне уже позвонили несколько наших друзей, с которыми мы встречались после поездки во Францию. На звонки я не отвечала, но от одной нашей с Яшей общей знакомой пришло сообщение. Она хотела уточнить, правда ли у нас коронавирус и действительно ли мы в «Коммунарке». Я ответила, что результаты анализов ещё не пришли, но да, мы в «Коммунарке». «Какой ужас», – написала она. Я вдруг поняла, что она не интересуется нашим здоровьем. Она боится, что тоже заразилась от нас. Как будто у нас что-то очень неприличное, что-то венерическое.
Я горько усмехнулась и вытащила из сумки Яшин телефон. Навороченный раскладывающийся смартфон, последняя новинка. Мы купили его перед отъездом, и Яше очень нравилось, что у него большой экран, на котором он всё видит без очков. Я провела рукой по экрану. Подобрать пароль было несложно – Яшин год рождения. Он не собирался защищать телефон от меня, даже если тот хранил в себе какие-то секреты Лучанского. Яша прекрасно знал, что я сама не стану искать лишнюю информацию, которая может меня ранить. И сейчас я хотела выяснить не подробности его романтических отношений, если таковые ещё существовали. Я хотела узнать, не звонили ли ему коллеги, друзья или, что ещё хуже, журналисты.
В журнале я нашла два десятка пропущенных звонков. Телефон Яша поставил в бесшумный режим. Сообщений было меньше: вероятно, все понимали, что Лучанский вряд ли станет переписываться. Но несколько я всё-таки прочитала. Одно было от Сергея, его директора. Тут всё понятно, Сергей знал, что мы заболели. Он ездил с нами во Францию, он же договаривался с «Коммунаркой». Теперь Сергей беспокоился, что Яша не отвечает. Я быстро набрала ему сообщение, что Якова перевели в реанимацию. В конце концов, Сергей точно должен знать обо всём, что происходит с Яковом. Подумав, отправила ещё одно сообщение: «Сергей, если журналисты будут звонить, никому ни слова. Ни о чём».
До меня вдруг дошло, что та самая приятельница, которая писала мне, откуда-то знает, что мы в «Коммунарке». Откуда? Я ей ничего не говорила. Никто, кроме директора Яши, его водителя и медперсонала, ничего не знал. За столько лет жизни с Яшей я отчасти привыкла к публичности. Каждое значимое событие в судьбе такого писателя, как Лучанский, будь то успех или провал новой книги, юбилеи, дни рождения, свадьбы, похороны становились достоянием общественности. Я привыкла, что ему звонят журналисты и спрашивают его мнение по любому поводу: от правительственной реформы до счёта в спортивном матче. И если сейчас все газеты начнут писать о болезни Лучанского, я не удивлюсь. Но мне бы очень не хотелось этого допустить. Мне бы не хотелось, чтобы люди обсуждали состояние его здоровья, какие-то интимные подробности. Особенно сейчас, когда ситуация выходила из-под контроля.
«Не вопрос, Ольга Александровна. Как Яков Михайлович?», – прилетел ответ от Сергея.
«В реанимации. Ничего не знаю. Напишу».
К глазам опять подступили слёзы. Кажется, написав эти слова, я придала им какую-то силу. Теперь, когда знаю не только я, ситуация как будто бы стала хуже. Вот почему я не хотела никаких обсуждений.
Я всё-таки открыла второе сообщение: «Яков Михайлович, это правда, что вы лежите с коронавирусом в „Коммунарке“ после гастролей по Франции? Скажите, а вы соблюдали обязательный карантин по приезде? А правда ли, что…»
Я не стала дочитывать. Одной кнопкой отправила автора в бан. Яша, кстати, не умеет так делать. Поэтому до него иногда дозваниваются издания, которым совершенно не стоило бы давать комментарии. Тут же по построению фраз всё понятно. Какая-нибудь жёлтая газетёнка изо всех сил пытается нарыть сенсацию. Пошли к чёрту. Пошли они все к чёрту.
Подумав, я выключила Яшин телефон. А потом и свой собственный. Все, кто имеет для меня значение, сейчас в одном здании со мной. Яша не сможет мне позвонить в любом случае. А медики, если им понадобится мне что-то сообщить, придут лично. Весь остальной мир пусть катится ко всем чертям.
Я легла на кровать и закрыла глаза. Меньше всего мне хотелось сейчас видеть казённые белые стены и безликие белые жалюзи, закрывавшие окна. Четырнадцать метров палаты уже успели мне смертельно надоесть. Как всё-таки бездушны и бесчеловечны больничные интерьеры. Две кровати, две тумбочки, шкаф для одежды, телевизор на стене. Окно с жалюзи и широким подоконником. Жалюзи можно было бы поднять, но я прекрасно знала, что за окном только трасса и голые деревья. Мерзкий московский март…
Но если прикрыть веки, можно перенестись в любое место и в любое время. Например, в то счастливое лето, в котором я познакомилась с Яшей.
***
Я никогда не любила поэзию. Вероятно, именно поэтому стала женой знаменитого поэта Якова Лучанского.