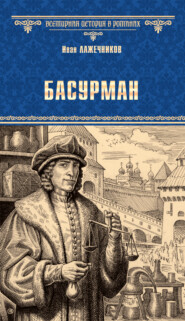По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний Новик. Том 1
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Во-вторых, говорят, ваш коновал отправился на тот свет лечить лошадей. Покуда сыщется другой (Фриц снял опять шляпу, почесал себе пальцем по шее и униженно поклонился), – гe, гe, ваш преданнейший и всеусерднейший слуга, великий конюший двора ее светлости, баронессы Зегевольд, осмеливается предложить вам… гe, гe…
– Свои услуги, не так ли?
– Малую толику, господин оберст-вахтмейстер! За меня поручится вся округа, что я залечиваю менее четвероногих, нежели иной свою братью двуногую.
– Верю, верю и охотно принимаю тебя в свою команду врачом, и ныне же готов велеть показать тебе всех четвероногих пациентов; но баронесса…
– Понимаю: будет гневаться, думаете вы, что я посещаю вашу квартиру и, может быть, выношу сор из ее палат?
– Справедливо.
– Не беспокойтесь! Я не дворовая собака, которую она вольна держать на привязи: служу свободно, пока меня кормят и ласкают; не так – при первом толчке ногой могу показать и хвост, то есть хочу сказать, что я не крепостной слуга баронессин. К тому ж, нанимаясь к ней в кучера и коновалы, я условился с ее милостью, чтобы мне позволено было заниматься практикою в окружности Гельмета. Надеюсь, вы мне дадите хлебец и по другим эскадронам. В плате ж за труды…
– Конечно, не будешь обижен. С этого часа ты наш.
– Ваш и телом и душой.
– И совестью коновальской, не правда ли?
– Для вас не помучу ее; но когда бы пришлось иметь дело, например, с вашим дядюшкой, не счел бы за грех обмануть его.
– Почему ж нравится тебе племянник более дяди?
– Об этом скажу вам после, когда созреет яблочко, посаженное семечком в доброй земле.
– Припевом этим не ты один прельщаешь. Мне кажется, что ты сказочник.
– Мои сказки, не так, как у иных, длятся тысячу и одну ночь, – того и смотри, как сон в руку. Нет, я скорей отгадчик. Давно известно, что мельник и коновал ученики нечистого. Вот, например, с позволения вашего молвить, господин оберст-вахтмейстер, я знаю, зачем вы идете по этой дороге со мною.
– А зачем бы?
– Вам хотелось бы узнать от верного человечка, что делается с тою, гe, гe, которую вы любите.
– Кого я люблю? Кто дал тебе право судить о моих чувствах?
– Желание вам добра. Коли вы обижаетесь слышать то, о чем вы хотели бы меня спросить и зачем вы шли по этой дороге, так я буду молчать. А я было спросту думал подарить вас еще в прибавок тем, в чем вы нуждаетесь, – именно утешеньицем и надеждою. Извините меня, господин оберст-вахтмейстер! (Здесь Фриц поклонился.)
– Утешением? говори ж скорее, дух-искуситель! что делает Луиза?
– Потише, потише, господин! Такие вещи не получаются даром.
– Требуй все, что имею.
– Вы не заплатите мне тем, чем разумеете. Когда я дарю вас вещьми, которых у вас нет, следственно, я покуда богаче вас. Конюх баронессы Зегевольд чудак: его не расшевелят даже миллионы вашего дяди; золото кажется ему щепками, когда оно не в пользу ближнего. Фриц с козел смотрит иногда не только глазами, но и сердцем выше иных господ, которые сидят на первых местах в колымаге, – буди не к вашей чести сказано.
– Чего ж ты хочешь от меня?
– Безделицы! Поменяться со мною обещаниями.
– Что ж должен я обещать?
– Во-первых, молчать, о чем я буду сказывать вам за тайну ныне и впредь; во-вторых, выполнить при случае, о чем я вас прошу, и, в-третьих, все это утвердить честным вашим словом.
Густав подумал: «О чем может просить меня кучер баронессы, что б не было согласно с моими обязанностями, с моими собственными желаниями?» – подумал, посоветовался с сердцем и сказал:
– Честное слово Густава Траутфеттера, что я выполню требования твои. Говори ж, ради Создателя, что делает Луиза?
– Что она делает? С тех пор, как вы скрылись из замка, она слегла…
– Боже мой!
– Не пугайтесь и помните о том, что я вам обещал. Она слегла в постель. Не скрою от вас, она больна, очень больна.
– Несчастный! что я говорю: несчастный? – изверг, я убил ее!
– Вчера я видел лекаря Блументроста.
– Что ж он говорит?
– Когда я спросил его, каково нашей молодой госпоже, он шепнул мне: «Бог милостив!» Это слово великое, господин! Он не употребляет его даром. «Послезавтра, – прибавил он, – перелом болезни, и тогда мы увидим, что можно будет вернее сказать». – «А теперь?» – спросил я его. «Теперь, по мнению моему, есть надежда», – отвечал он.
Густав остановился, стал на колени, сложил руки и молился:
– Боже милосердый, спаси ее! Ни о чем другом не молю Тебя: спаси ее! Всемогущий отец! сохрани Свое лучшее творение на земле и разбей сосуд, из которого подана ей отрава.
– Встаньте, господин оберст-вахтмейстер его королевского величества, крестьяне, работающие в поле, сочтут вас помешанным – не во гнев буди вам сказано.
– Даю тебе право говорить что хочешь, – сказал Густав, вставая. – Точно, я обезумел.
– Легче ли вам теперь?
– Фриц, друг мой, ты воскрешаешь меня.
– Вот утешенье, которое я обещал вам. Теперь поговоримте о надежде, которую я хотел вам наворожить. Во-первых, скажу: отчаяние – величайший из грехов. Я не пастор, а разумею кое-что. Худо вы сделали; но кто поручится, чтобы не сделал того ж другой молодец на вашем месте, с огнем вместо крови, как у вас? Кто знает, бароны и баронессы рассчитывали по-своему, а тот, кто выше не только их, но и короля шведского, который щелкает по носам других корольков (здесь Фриц скинул шляпу и поднял с благоговением глаза к небу), тот, может быть, рассчитал иначе. Еще скажу: дело не о прошедшем – его воротить нельзя, – а о будущем, которое можно предугадать и поправить.
– Особенно вам, коновалам-колдунам!
– Да, и наша милость будет тут стряпать. Завтра Бог откроет нам Свое определение. Если он окажет милости Свои, то…
– Молю Бога об одной жизни ее.
– Для меня этого мало: я хочу устроить судьбу вашу.
– Ты? опомнись, Фриц!
– С помощью добрых людей.
– Вероятно, дворецкого, камердинера и прочей честной компании.
– Свои услуги, не так ли?
– Малую толику, господин оберст-вахтмейстер! За меня поручится вся округа, что я залечиваю менее четвероногих, нежели иной свою братью двуногую.
– Верю, верю и охотно принимаю тебя в свою команду врачом, и ныне же готов велеть показать тебе всех четвероногих пациентов; но баронесса…
– Понимаю: будет гневаться, думаете вы, что я посещаю вашу квартиру и, может быть, выношу сор из ее палат?
– Справедливо.
– Не беспокойтесь! Я не дворовая собака, которую она вольна держать на привязи: служу свободно, пока меня кормят и ласкают; не так – при первом толчке ногой могу показать и хвост, то есть хочу сказать, что я не крепостной слуга баронессин. К тому ж, нанимаясь к ней в кучера и коновалы, я условился с ее милостью, чтобы мне позволено было заниматься практикою в окружности Гельмета. Надеюсь, вы мне дадите хлебец и по другим эскадронам. В плате ж за труды…
– Конечно, не будешь обижен. С этого часа ты наш.
– Ваш и телом и душой.
– И совестью коновальской, не правда ли?
– Для вас не помучу ее; но когда бы пришлось иметь дело, например, с вашим дядюшкой, не счел бы за грех обмануть его.
– Почему ж нравится тебе племянник более дяди?
– Об этом скажу вам после, когда созреет яблочко, посаженное семечком в доброй земле.
– Припевом этим не ты один прельщаешь. Мне кажется, что ты сказочник.
– Мои сказки, не так, как у иных, длятся тысячу и одну ночь, – того и смотри, как сон в руку. Нет, я скорей отгадчик. Давно известно, что мельник и коновал ученики нечистого. Вот, например, с позволения вашего молвить, господин оберст-вахтмейстер, я знаю, зачем вы идете по этой дороге со мною.
– А зачем бы?
– Вам хотелось бы узнать от верного человечка, что делается с тою, гe, гe, которую вы любите.
– Кого я люблю? Кто дал тебе право судить о моих чувствах?
– Желание вам добра. Коли вы обижаетесь слышать то, о чем вы хотели бы меня спросить и зачем вы шли по этой дороге, так я буду молчать. А я было спросту думал подарить вас еще в прибавок тем, в чем вы нуждаетесь, – именно утешеньицем и надеждою. Извините меня, господин оберст-вахтмейстер! (Здесь Фриц поклонился.)
– Утешением? говори ж скорее, дух-искуситель! что делает Луиза?
– Потише, потише, господин! Такие вещи не получаются даром.
– Требуй все, что имею.
– Вы не заплатите мне тем, чем разумеете. Когда я дарю вас вещьми, которых у вас нет, следственно, я покуда богаче вас. Конюх баронессы Зегевольд чудак: его не расшевелят даже миллионы вашего дяди; золото кажется ему щепками, когда оно не в пользу ближнего. Фриц с козел смотрит иногда не только глазами, но и сердцем выше иных господ, которые сидят на первых местах в колымаге, – буди не к вашей чести сказано.
– Чего ж ты хочешь от меня?
– Безделицы! Поменяться со мною обещаниями.
– Что ж должен я обещать?
– Во-первых, молчать, о чем я буду сказывать вам за тайну ныне и впредь; во-вторых, выполнить при случае, о чем я вас прошу, и, в-третьих, все это утвердить честным вашим словом.
Густав подумал: «О чем может просить меня кучер баронессы, что б не было согласно с моими обязанностями, с моими собственными желаниями?» – подумал, посоветовался с сердцем и сказал:
– Честное слово Густава Траутфеттера, что я выполню требования твои. Говори ж, ради Создателя, что делает Луиза?
– Что она делает? С тех пор, как вы скрылись из замка, она слегла…
– Боже мой!
– Не пугайтесь и помните о том, что я вам обещал. Она слегла в постель. Не скрою от вас, она больна, очень больна.
– Несчастный! что я говорю: несчастный? – изверг, я убил ее!
– Вчера я видел лекаря Блументроста.
– Что ж он говорит?
– Когда я спросил его, каково нашей молодой госпоже, он шепнул мне: «Бог милостив!» Это слово великое, господин! Он не употребляет его даром. «Послезавтра, – прибавил он, – перелом болезни, и тогда мы увидим, что можно будет вернее сказать». – «А теперь?» – спросил я его. «Теперь, по мнению моему, есть надежда», – отвечал он.
Густав остановился, стал на колени, сложил руки и молился:
– Боже милосердый, спаси ее! Ни о чем другом не молю Тебя: спаси ее! Всемогущий отец! сохрани Свое лучшее творение на земле и разбей сосуд, из которого подана ей отрава.
– Встаньте, господин оберст-вахтмейстер его королевского величества, крестьяне, работающие в поле, сочтут вас помешанным – не во гнев буди вам сказано.
– Даю тебе право говорить что хочешь, – сказал Густав, вставая. – Точно, я обезумел.
– Легче ли вам теперь?
– Фриц, друг мой, ты воскрешаешь меня.
– Вот утешенье, которое я обещал вам. Теперь поговоримте о надежде, которую я хотел вам наворожить. Во-первых, скажу: отчаяние – величайший из грехов. Я не пастор, а разумею кое-что. Худо вы сделали; но кто поручится, чтобы не сделал того ж другой молодец на вашем месте, с огнем вместо крови, как у вас? Кто знает, бароны и баронессы рассчитывали по-своему, а тот, кто выше не только их, но и короля шведского, который щелкает по носам других корольков (здесь Фриц скинул шляпу и поднял с благоговением глаза к небу), тот, может быть, рассчитал иначе. Еще скажу: дело не о прошедшем – его воротить нельзя, – а о будущем, которое можно предугадать и поправить.
– Особенно вам, коновалам-колдунам!
– Да, и наша милость будет тут стряпать. Завтра Бог откроет нам Свое определение. Если он окажет милости Свои, то…
– Молю Бога об одной жизни ее.
– Для меня этого мало: я хочу устроить судьбу вашу.
– Ты? опомнись, Фриц!
– С помощью добрых людей.
– Вероятно, дворецкого, камердинера и прочей честной компании.
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67