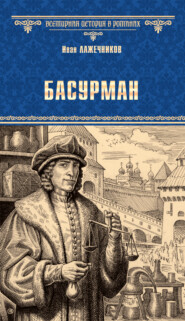По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Басурман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Волей или неволей жалуешь ко мне? – спросил старик.
– Неволей, – отвечал молодой человек, – потому что наслало меня к тебе дело головное, кровное; волей, потому что в этом деле избрал тебя, Афанасий Никитич, вместо отца родного. Будь же мне отец, не откажись.
Такое вступление изумило тверчанина. Но когда молодой человек стал рассказывать ему свои намерения и просьбу, одинокий глаз старика заблистал чудным светом, губы его растворились улыбкой. Выслушав челобитье, он с большим удовольствием изъявил готовность быть печальником и сватом Антона христианского дела ради: только успех отдавал в руки господа.
– Побудь у меня часок, – сказал Афоня, схватив свою шапку и посох, – разом ворочусь. Злое дело откладывай со дня на день и молись: авось соскучится сидеть у тебя за пазушкой да стошнится от молитвы; сгинет в благой час, аки нечистая сила от заутреннего звона. С добрым делом иначе. Взвидел птицу дорогую, наметывай мигом калену стрелу, натягивай лук тугой – она твоя, птица небесная. Пропустишь, и потонула в небе.
– Боюсь только, вовремя ли пришел, – сказал Антон. – Я с запросом к твоему кольцу, а ты запел песнь надгробную. Навел на душу тоску невыносимую. Почему так скоро перешел к этой песне от возношения господа?
– Почему? – отвечал тверчанин, несколько смутясь, – почему, сказать тебе не сумею. Нашел божий час, не мой. Да не кручинься попусту: где господь, там все благо, все добро. Помолимся ему, и возрадуется душа наша о нем.
И старик пал телом и духом перед иконою – за ним Антон.
– Теперь, помолясь, с благословением божиим примемся за службу ему, – молвил первый и вышел из избы.
Можно судить, в каком тревожном состоянии остался молодой человек. Все шаги, все слова чудного посредника между ним и судьбою были заочно взвешены, рассчитаны по маятнику замиравшего сердца. «Вот, – думал Антон, – подошел старик к воротам Образца, вот он всходит на лестницу… Он в комнате боярина… произносит имя Анастасии, имя мое… Жребий мой положен на весы судьбы… Господи, урони на него милостивый взор!»
Между тем Афоня быстро направлял свои шаги к жилищу Образца, приискивая в голове и сердце речи, которые могли бы успешнее действовать на отца Анастасьина. Странник был недавно у святого мужа, Иосифа Волоцкого, и наслушался из его медоточивых уст духовной беседы с одним боярином, от которой сердце его таяло. Из нее-то источники собирался он употребить теперь в дело. Еще впервые путь его неровен и грудь по временам требует отдыха; впервые рука, дрожа, схватила вестовое кольцо и неверно ударила в столб приворотный. Боярин дома, Афоне отворяют калитку; Афоне запрета нет, в какие б часы дня ни пришел он. Всходит на лестницу. У сенных дверей он отдохнул и оправился.
Василий Федорович лежал на постели в повалуше, ему очень нездоровилось. Никогда еще в жизни своей не хворал он сильно, и потому настоящая болезнь, вдруг его свалившая, не таила опасных признаков. Одр, может быть смертный, и будущность – вот великие темы, которые представлялись самородному красноречию нашего странника-витии.
По-прежнему гость, войдя в клеть, ставил посох у дверей, творил три крестные знамения перед иконой и кланялся низко хозяину, пожелав ему здравия, по-прежнему хозяин ласково привечал его и сажал на почетное место. После разных оговорок с обеих сторон тверчанин начал так:
– Вот прошло и красное лето. Пташки свили гнезда, вывели деток, выкормили их и научили летать. Потянул ветер со полуночи – не страшен пичужечкам; пестуны указали им дорожку по поднебесью на теплые воды, на привольные луга. Запоздай родимые выводом, немудрено и снеговой непогоде застать малых детышей, бедных птенчиков.
Боярин взглянул пристально в око Афоне и примолвил:
– Ты неспросту речь ведешь, Никитич.
– Сам ведаешь, боярин, перед сказкою всегда присказок. А веду я речь к тому, коротко лето и нашего жития. У кого есть детки, надо подумать, как бы им теплое гнездышко свить, как бы их от непогоды на теплые воды.
– Птицы небесные не сеют и не жнут, а с голоду не умирают, – возразил боярин, – обо всех их господь равно промышляет, равно их от грозы приючает, показывает им всем путь чист в привольную сторону. А нам за грехи ли наших прародителей или за наши не всем одинака доля дается: кому талан, кому два, овому нет ничего. Забот и у нас о детках немало, да… (тут он глубоко вздохнул).
– Иной летает соколом с руки великокняжеской, – перебил Афоня, – что ни круг, то взовьется выше; другой пташке не та часть. Поет себе щебетуньей-ласточкой, скоро-скорехонько стрижет воздух крыльями, а дале дома родимого не смеет. Не все ж по тепло на гнездо колыбельное; придет пора-времечко, надо и свое гнездышко свивать и своих детушек выводить.
– Опять отвечу: наша доля и наш урок в руке господней, без него и волос с головы не падет.
– Не взыщи, осударь, Василий Федорович, коли я, худородный, бездомный странник, молвлю тебе не в укор, не в уразумение, а в напоминание. У нас на уме все сокровища земные, то для себя, то для деток, а про сокровища небесные, их же ни тля, ни червь не поедают, и в помине нет. А там придет час Христов, аскамитных кафтанов, ковшов серебряных, ларцов кованых с собой не возьмем; явимся к нему наги, с одними грехами или добрыми делами.
– Господь ведает, по силам и разумению трудимся о спасении души нашей и детей наших.
– Трудишься? а ищешь богатых, знатных женихов осударыне Анастасии Васильевне?..
Не оскорбился боярин этим упреком и отвечал ласково:
– Правда твоя, искал по немощи родительской, а более человеческой. За то, статься может, господь и наказал меня сватовством Мамона. С той поры не плодит мое деревцо сладких яблочков; с той поры женихов Настеньке словно рукой сняло, да и сама она, горемычная, сохнет, что былина на крутом яру. Я ли не ходил на богомолье по святым местам; я ли не ставил местных свеч, не теплил лампады неугасимой!
– Слыхал ты божье слово: вера без дел мертва.
– Слыхал, и творил по божью слову. Оделял я щедро нищую братью, помогал разоренным от пожара, в голодные годы, выкупал из плену басурманского. И старался, чтобы левая рука не знала, что подает правая.
– Вестимо, и то все господу в угоду. Да ты давал свой излишек, чего у тебя вдоволь было. Не последний ломоть делил ты, не последнюю пулу отдавал. Вот дело иное, кабы ты для спасения души твоего недруга отдал бы, чего у тебя дороже, милее нет на белом свете, кусок своего тела, кровь свою!
Сказав это, старик выпрямился и зорко посмотрел одиноким, блестящим глазом на своего слушателя, как стрелок желая высмотреть, ловко ли ударил в цель. Заставили бы его повторить, он не сумел бы; ему самому казалось, кто-то другой говорил в нем.
При слове «недруга» боярин побледнел и весь задрожал.
– Не о Мамоне ли говоришь? – воскликнул он голосом осужденного, который просит милости.
– Что ж? хоть бы о нем. Он твой ворог!
– Афанасий Никитич, друже мой, ты хочешь бесчестья моей седой голове, бесчестья сыну, дочери, всему роду нашему. Ты хочешь, чтоб я умер неспокойно, чтоб я с того света слышал, как дети моих детей будут пенять мне, может статься, клясть меня за позор свой, чтобы я слышал, как народ, мои вороги будут смеяться над моей могилой и позорничать над ней. Вот, скажут, был добрый отец! радел о детках… пристроил дочку единородную, любимую за внука колдуньи, что сожжена в Можае на лобном месте! Внук ведьмы, сын кровного ворога моего, с ним же должен мой сын на поле, поймет дочь мою… Нет, Афанасий Никитич, проси, требуй от меня другого. Господь видит, коли то для Христова дела, не пожалею крови своей.
К этому слову вел Афанасий Никитич; он почти торжествовал победу.
– Успокойся, боярин, не к Мамону речь веду. Спасет ли его окаянную душу дочка твоя любимая, голубица чистая? Только свою погубит. Не ее желает он сыну, а богатства твоего. Жених мой не таков, хочет одного богатства небесного; только с этим приданым дорога ему Анастасия свет-радость Васильевна.
– О ком же говоришь, и в ум не дается.
Афоня сотворил крестное знамение и сказал:
– Я пришел к тебе сватом, осударь Василий Федорович, да не простым, обыденным; хочу, да и в день великой душа бы твоя явилась ко Христу, аки невеста чистая, непорочная. Вот видишь, два жениха на примете для Анастасии Васильевны. За обоих стоит господин наш Иван Васильевич, за одного стою я крепко: оба басурманы. Один татарин и царевич…
– Каракача, сын касимовца Даньяра.
– Как сон в руку.
– Уж были мне стороной намеки о нем. Не прочь бы я от него, коли он окрестится.
– Вестимо, он царевич!.. Дело христианское делом, честь таки честью!..
Ирония эта глубоко потрясла религиозную душу Образца. Он смутился, как бы проговорясь перед своим судьею, но, оправившись, отвечал:
– Так я за царевича не отдам, видит господь, не отдам… Кто ж другой? Не томи, ради бога.
– Боярин, помни, не простую свадьбу затеваем; мы готовим венцы нетленные на тебя и другого раба божьего.
– Говори, друже, говори.
– Другой… Онтон-лекарь.
– Немчин! – вскричал Образец, помертвев.
В этом слове был целый род латынщиков, ненавистный, заклятый, смерть любимого сына, вся жизнь боярина с ее предрассудками и верованиями.
– Ведь я не таил от тебя, что жених басурман.
– Чернокнижник, слуга нечистого! – продолжал боярин.
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67