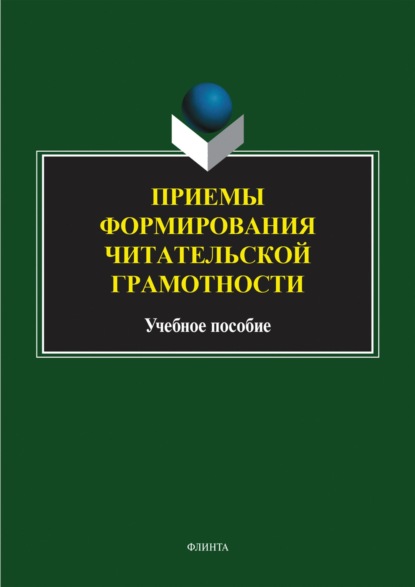По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пожар Москвы
Автор
Год написания книги
1930
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, так черт с тобой, когда так, ступай куда хочешь, к черту, ханжа!
Гусар круто повернулся и зашагал, придерживая саблю под локтем. Кошелев посмотрел на его худую спину и только теперь понял, что маленький гусар не вовсе трезв.
На мгновение Кошелеву показалось, что все смотрят на него и знают то, что сам он глубоко прятал от себя и от людей, о неведомой Софьюшке, бесчестном страхе, который одна Параша прощает ему, а не простил бы никто.
Он почти бежал у стен домов и через мост.
С горечью и разочарованием он думал, что его жизнь не удалась, что его жизнь была бы иной, если бы он спас тогда Софьюшку. Неведомая, она показалась ему необычайно-прекрасной, но тут же его тронула жалость к Параше, точно он предает ее ради видения, ради неведомой.
За площадью косой и дымной горой подымалось аметистовое небо: над Парижем собирался дождь. Кошелев посмотрел на дальний купол инвалидного дома, за которым шла аметистовая гора:
– Но я ничем не мог ей помочь. Я не мог…
На бормочущего иностранца с любопытством оглядывались прохожие. Крупные, как гривенники, капли застучали но шляпе. Ветер дохнул шумно и холодно, понесло дождевой дым, экипажи и прохожие мгновенно смешались в клубы тумана.
Тоска и невыносимый страх охватили Кошелева. Неведомая Софьюшка, о которой внезапно напомнил ему изюмский гусар, пожар Москвы поднялся в нем терзающим видением. Париж, нагромождение домов, снующие люди, блестящие экипажи – все отошло и смутно умолкло в тумане вод. Пожар видений окружил Кошелева. «О чем я? Пожар давно отгорел, Париж завоеван, я в Париже, как это? Знамена, мстители Москвы, шумят над Сеной горделивой. Не отгорел тот пожар, вот о чем. Строганов справедливо сказал: знак пожара ужаснейшего, вот о чем».
– И горим, – с горечью и злобой пробормотал он. – Все души в беспокойстве. У Полторацкого, у графа, у меня… А Евстигней разве не сгорел, а Павлуша… Господи, Россия горит, страшно от Твоего зрелища…
Он вспомнил, как его вели с пленными. Он подумал, что Полторацкий чем-то похож на расстрелянного трубача. Он вспомнил монастырскую шапочку Параши. Его жена, каретник, трубач из сдаточных парней, барич-гусар, его гренадеры, смирный граф, те молодые всадники, римский босой легион, встреченный им, все русские люди, которых он видел когда-либо, внезапно показались ему изумительно-светлыми и прекрасными. Его стал успокаивать шум дождя.
Навстречу попался русый гренадер в белых штанах и в тяжелом кивере, похожем на мокрую митру.
Гренадер вел за руку девушку, вернее девочку, в тафтяном шарфе, завязанном на груди узлом. Миловидное личико весело и свежо смотрело из-под мокрого чепца. Она высоко приподымала подол и были видны ее ножки в белых чулках. Громадный гренадер вел ее за руку, так парни ходят с девушками в русских деревнях.
Капрал Михайло Перекрестов так отводил с каруселей домой, в прачечную, Крошку Сюзанн, как звали ее соседки, ту самую сладкую бабищу-великаншу, которой пенял его полковой дядька.
Михайло выпустил руку Сюзанн и, выбрякнув медью, стал во фрунт. Кошелев приветливо улыбнулся, прошел мимо.
– Вроде наш командер, а, смотри, в вольном. Надо быть, обознался, – уверенно сказал Михайло. Он все говорил ей уверенно и ясно, точно Сюзанн могла его понимать.
На истертых ступеньках у прачечной они постояли в самой луже. Сюзанн огляделась, нет ли кого вблизи, приподнялась на носки и довольно больно дернула книзу за черные баки этого чужого и большого ребенка со смешным именем Миша. Потеребить его на прощание за баки Сюзанне нравилось больше всего.
XII
Уже много дверей закрылось пред носом Кошелева, уже во многих домах жильцы вежливо покачивали головами, рассматривая с недоумением графские конверты, на которых были четко написаны неизвестные имена. Колесница революции и империи пронеслась над Парижем, кто из графских друзей мог уцелеть под такой грозой в своих гнездах, но Кошелев постучал еще в одну дверь, на четвертом этаже старого дома, на темной улице Кота-Рыболова у Сены. Ему долго не отпирали. Он постучал снова.
Тогда ему отпер старый Бенже, когда-то секретарь клуба «Друзей закона»: он усидел под всеми бурями в своем гнезде. Его лысая голова тряслась и слезились глаза. Старый якобинец вышел на лестницу в туфлях на босу ногу, в заношенном халате с торчащими клочьями ваты.
– Господин Бенже?
– Да, я Бенже, что вам надо?
Старик недоверчиво оглядел иностранца с рукой на черной повязке.
– Вам письмо от гражданина Очеро.
– Гражданина Очеро? Теперь нет граждан, и я не знаю никакого Очеро.
– Письмо адресовано вам, господин Бенже.
Старик запахнул на тощие ноги полу халата. Он неуверенно взял от Кошелева конверт и подошел к круглому окну на площадке.
– Гражданину Аристиду Бенже от гражданина Очеро, – прочел он. – Да, это мое имя, Аристид. Но мне не от кого ждать писем, я превосходно всеми забыт. Как паршивая собака. Послушайте, это шутка? Я не знаю Очеро… Очеро.
Вдруг сильно блеснули слезящееся глаза, конверт запрыгал в костлявых пальцах.
– Как, вы от Очеро? От русского Очеро? Знаю ли я Очеро? Тише… Вы русский? Входите…. Очеро, таких имен больше нет, входите.
Старик почти втащил Кошелева в прихожую. Он разломил зеленую печать на конверте. Они сели в шаткие кресла, у камина. Тускло озарило слезящийся глаз якобинца, морщинистую щеку, клочья серых волос у виска.
Лица Кошелева не было видно в потемках. Старик, наклоняясь к огню, читал письмо, губы шевелились беззвучно.
– Мой милый друг, мой милый друг, – пошептал Бенже, целуя письмо.
– А, ты помнишь ее, Очеро? Так ты помнишь нашу Теруань де Мерикур? Ее засекли.
– Она умерла?
– Скажите Очеро: нет, скажите Очеро: жива… В июне, нет, в мае проклятого девяносто третьего года… Уже двадцать лет… Торговки раздели ее догола и секли. Ее секли на площади, у Тюильери, недалеко от гильотины. Она сошла с ума. От стыда, может быть. Так кончаются великие революции. Уже двадцать лет, как она в сумасшедшем доме. Здесь, в Париже. Дайте листок, я напишу название госпиталя… Так Очеро не забыл ее. Бедный Очеро. Скажите, чтобы он поминал в молитвах ее бедную душу.
– Аминь, – сказал Кошелев, подымаясь с кресел.
Под дождем он торопился в гостиницу, когда изюмский субалтерн-офицер Енголычев с гуляния у Пале-Рояля провожал домой Жиннетт Дорфей. Что-то печальное и тревожащее говорил ей московский гусар. Она не понимала ни слова.
У самого подъезда к ним шагнул от стены высокий старик без шляпы, в мундире Наполеоновой армии. Старик замахнулся на Жиннетт, девушка вбежала в подъезд. По лицу старого француза струился дождь, седые пряди прилипли к щекам. Кентавр понял, что перед ним отец Жиннетт, и отступил. Понуро оперся на кривую саблю.
То пешим, то в случайном дилижансе полковник Дорфей добрался в Париж из Фонтенебло. Он оставил последние батальоны, знамена, императора. Ему писали, что его Жиннетт видели с русским варваром, среди австрийской и прусской сволочи, среди русских дикарей, запрудивших несчастный Париж. И кто же? Мокрый щенок, в желтом ментике с белой опушкой, ощипанной дождем:
– Прочь!
Мальчишка-гусар виновато улыбнулся и заговорил что-то доверчиво. Этот скиф с серым шрамом не понимает, ему объяснят. Старик ступил к гусару, ногтями ущипнул его за ухо, затеребил, лицо гусара посерело:
– Прочь!
За ухо, пригибая к земле, старик повел русского гусара по улице. Тот вырвался, отряхнулся и зашагал, не оглядываясь. Желтый ментик скоро расплылся в дождевом тумане.
Гусары при свечах метали банк, когда в покой вошел Кентавр. Он лег на канапе к стене лицом. С яростью, кулаками, он взбивал кожаную подушку и почти стонал сквозь зубы:
– Ведь отец, как мне с ним было, отец, чтоб его черт, черт…
– Ты, Паша, о ком? – окликнул его Полторацкий, подавая карту банкомету.
– Ступай к черту! – бешено крикнул Кентавр, сбрасывая с канапе ноги. – Все к черту! Галдят, орут, точно контрактовая ярмарка, к черту!
Лохматый и ярый, с кожаной подушкой под мышкой, Кентавр в ту ночь ушел спать к гусарским коням, под навес.
Ночью великий город дышал, светился и ровно шумел, как будто шел неумолкаемый прибой.
Гусар круто повернулся и зашагал, придерживая саблю под локтем. Кошелев посмотрел на его худую спину и только теперь понял, что маленький гусар не вовсе трезв.
На мгновение Кошелеву показалось, что все смотрят на него и знают то, что сам он глубоко прятал от себя и от людей, о неведомой Софьюшке, бесчестном страхе, который одна Параша прощает ему, а не простил бы никто.
Он почти бежал у стен домов и через мост.
С горечью и разочарованием он думал, что его жизнь не удалась, что его жизнь была бы иной, если бы он спас тогда Софьюшку. Неведомая, она показалась ему необычайно-прекрасной, но тут же его тронула жалость к Параше, точно он предает ее ради видения, ради неведомой.
За площадью косой и дымной горой подымалось аметистовое небо: над Парижем собирался дождь. Кошелев посмотрел на дальний купол инвалидного дома, за которым шла аметистовая гора:
– Но я ничем не мог ей помочь. Я не мог…
На бормочущего иностранца с любопытством оглядывались прохожие. Крупные, как гривенники, капли застучали но шляпе. Ветер дохнул шумно и холодно, понесло дождевой дым, экипажи и прохожие мгновенно смешались в клубы тумана.
Тоска и невыносимый страх охватили Кошелева. Неведомая Софьюшка, о которой внезапно напомнил ему изюмский гусар, пожар Москвы поднялся в нем терзающим видением. Париж, нагромождение домов, снующие люди, блестящие экипажи – все отошло и смутно умолкло в тумане вод. Пожар видений окружил Кошелева. «О чем я? Пожар давно отгорел, Париж завоеван, я в Париже, как это? Знамена, мстители Москвы, шумят над Сеной горделивой. Не отгорел тот пожар, вот о чем. Строганов справедливо сказал: знак пожара ужаснейшего, вот о чем».
– И горим, – с горечью и злобой пробормотал он. – Все души в беспокойстве. У Полторацкого, у графа, у меня… А Евстигней разве не сгорел, а Павлуша… Господи, Россия горит, страшно от Твоего зрелища…
Он вспомнил, как его вели с пленными. Он подумал, что Полторацкий чем-то похож на расстрелянного трубача. Он вспомнил монастырскую шапочку Параши. Его жена, каретник, трубач из сдаточных парней, барич-гусар, его гренадеры, смирный граф, те молодые всадники, римский босой легион, встреченный им, все русские люди, которых он видел когда-либо, внезапно показались ему изумительно-светлыми и прекрасными. Его стал успокаивать шум дождя.
Навстречу попался русый гренадер в белых штанах и в тяжелом кивере, похожем на мокрую митру.
Гренадер вел за руку девушку, вернее девочку, в тафтяном шарфе, завязанном на груди узлом. Миловидное личико весело и свежо смотрело из-под мокрого чепца. Она высоко приподымала подол и были видны ее ножки в белых чулках. Громадный гренадер вел ее за руку, так парни ходят с девушками в русских деревнях.
Капрал Михайло Перекрестов так отводил с каруселей домой, в прачечную, Крошку Сюзанн, как звали ее соседки, ту самую сладкую бабищу-великаншу, которой пенял его полковой дядька.
Михайло выпустил руку Сюзанн и, выбрякнув медью, стал во фрунт. Кошелев приветливо улыбнулся, прошел мимо.
– Вроде наш командер, а, смотри, в вольном. Надо быть, обознался, – уверенно сказал Михайло. Он все говорил ей уверенно и ясно, точно Сюзанн могла его понимать.
На истертых ступеньках у прачечной они постояли в самой луже. Сюзанн огляделась, нет ли кого вблизи, приподнялась на носки и довольно больно дернула книзу за черные баки этого чужого и большого ребенка со смешным именем Миша. Потеребить его на прощание за баки Сюзанне нравилось больше всего.
XII
Уже много дверей закрылось пред носом Кошелева, уже во многих домах жильцы вежливо покачивали головами, рассматривая с недоумением графские конверты, на которых были четко написаны неизвестные имена. Колесница революции и империи пронеслась над Парижем, кто из графских друзей мог уцелеть под такой грозой в своих гнездах, но Кошелев постучал еще в одну дверь, на четвертом этаже старого дома, на темной улице Кота-Рыболова у Сены. Ему долго не отпирали. Он постучал снова.
Тогда ему отпер старый Бенже, когда-то секретарь клуба «Друзей закона»: он усидел под всеми бурями в своем гнезде. Его лысая голова тряслась и слезились глаза. Старый якобинец вышел на лестницу в туфлях на босу ногу, в заношенном халате с торчащими клочьями ваты.
– Господин Бенже?
– Да, я Бенже, что вам надо?
Старик недоверчиво оглядел иностранца с рукой на черной повязке.
– Вам письмо от гражданина Очеро.
– Гражданина Очеро? Теперь нет граждан, и я не знаю никакого Очеро.
– Письмо адресовано вам, господин Бенже.
Старик запахнул на тощие ноги полу халата. Он неуверенно взял от Кошелева конверт и подошел к круглому окну на площадке.
– Гражданину Аристиду Бенже от гражданина Очеро, – прочел он. – Да, это мое имя, Аристид. Но мне не от кого ждать писем, я превосходно всеми забыт. Как паршивая собака. Послушайте, это шутка? Я не знаю Очеро… Очеро.
Вдруг сильно блеснули слезящееся глаза, конверт запрыгал в костлявых пальцах.
– Как, вы от Очеро? От русского Очеро? Знаю ли я Очеро? Тише… Вы русский? Входите…. Очеро, таких имен больше нет, входите.
Старик почти втащил Кошелева в прихожую. Он разломил зеленую печать на конверте. Они сели в шаткие кресла, у камина. Тускло озарило слезящийся глаз якобинца, морщинистую щеку, клочья серых волос у виска.
Лица Кошелева не было видно в потемках. Старик, наклоняясь к огню, читал письмо, губы шевелились беззвучно.
– Мой милый друг, мой милый друг, – пошептал Бенже, целуя письмо.
– А, ты помнишь ее, Очеро? Так ты помнишь нашу Теруань де Мерикур? Ее засекли.
– Она умерла?
– Скажите Очеро: нет, скажите Очеро: жива… В июне, нет, в мае проклятого девяносто третьего года… Уже двадцать лет… Торговки раздели ее догола и секли. Ее секли на площади, у Тюильери, недалеко от гильотины. Она сошла с ума. От стыда, может быть. Так кончаются великие революции. Уже двадцать лет, как она в сумасшедшем доме. Здесь, в Париже. Дайте листок, я напишу название госпиталя… Так Очеро не забыл ее. Бедный Очеро. Скажите, чтобы он поминал в молитвах ее бедную душу.
– Аминь, – сказал Кошелев, подымаясь с кресел.
Под дождем он торопился в гостиницу, когда изюмский субалтерн-офицер Енголычев с гуляния у Пале-Рояля провожал домой Жиннетт Дорфей. Что-то печальное и тревожащее говорил ей московский гусар. Она не понимала ни слова.
У самого подъезда к ним шагнул от стены высокий старик без шляпы, в мундире Наполеоновой армии. Старик замахнулся на Жиннетт, девушка вбежала в подъезд. По лицу старого француза струился дождь, седые пряди прилипли к щекам. Кентавр понял, что перед ним отец Жиннетт, и отступил. Понуро оперся на кривую саблю.
То пешим, то в случайном дилижансе полковник Дорфей добрался в Париж из Фонтенебло. Он оставил последние батальоны, знамена, императора. Ему писали, что его Жиннетт видели с русским варваром, среди австрийской и прусской сволочи, среди русских дикарей, запрудивших несчастный Париж. И кто же? Мокрый щенок, в желтом ментике с белой опушкой, ощипанной дождем:
– Прочь!
Мальчишка-гусар виновато улыбнулся и заговорил что-то доверчиво. Этот скиф с серым шрамом не понимает, ему объяснят. Старик ступил к гусару, ногтями ущипнул его за ухо, затеребил, лицо гусара посерело:
– Прочь!
За ухо, пригибая к земле, старик повел русского гусара по улице. Тот вырвался, отряхнулся и зашагал, не оглядываясь. Желтый ментик скоро расплылся в дождевом тумане.
Гусары при свечах метали банк, когда в покой вошел Кентавр. Он лег на канапе к стене лицом. С яростью, кулаками, он взбивал кожаную подушку и почти стонал сквозь зубы:
– Ведь отец, как мне с ним было, отец, чтоб его черт, черт…
– Ты, Паша, о ком? – окликнул его Полторацкий, подавая карту банкомету.
– Ступай к черту! – бешено крикнул Кентавр, сбрасывая с канапе ноги. – Все к черту! Галдят, орут, точно контрактовая ярмарка, к черту!
Лохматый и ярый, с кожаной подушкой под мышкой, Кентавр в ту ночь ушел спать к гусарским коням, под навес.
Ночью великий город дышал, светился и ровно шумел, как будто шел неумолкаемый прибой.
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67