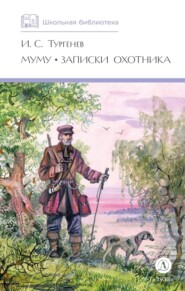По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вешние воды. Накануне (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какие там города! Там война теперь идет; теперь там, я думаю, куда ни поди, всё из пушек стреляют… Скоро ты ехать собираешься?
– Скоро… если только папенька… Он хочет жаловаться, он грозится развести нас.
Анна Васильевна подняла глаза к небу.
– Нет, Леночка, он не будет жаловаться. Я бы сама ни за что не согласилась на эту свадьбу, скорее умерла бы; да ведь сделанного не воротишь, а я не дам позорить мою дочь.
Так прошло несколько дней. Наконец Анна Васильевна собралась с духом и в один вечер заперлась с своим мужем наедине в спальне. Все в доме притихло и приникло. Сперва ничего не было слышно; потом загудел голос Николая Артемьевича, потом завязался спор, поднялись крики, почудились даже стенания… Уже Шубин вместе с горничными и Зоей собирался снова явиться на выручку; но шум в спальне стал понемногу ослабевать, перешел в говор – и умолк. Только изредка раздавались слабые всхлипывания – и те прекратились. Зазвенели ключи, послышался визг отворяемого бюро… Дверь раскрылась, и появился Николай Артемьевич. Сурово посмотрел он на всех встречных и отправился в клуб; а Анна Васильевна потребовала к себе Елену, крепко обняла ее и, залившись горькими слезами, промолвила:
– Все улажено, он не будет поднимать истории, и ничего теперь тебе не мешает уехать… бросить нас.
– Вы позволите Дмитрию прийти благодарить вас? – спросила Елена свою мать, как только та немного успокоилась.
– Подожди, душа моя, не могу я теперь видеть нашего разлучника… Перед отъездом успеем.
– Перед отъездом, – печально повторила Елена.
Николай Артемьевич согласился «не поднимать истории»; но Анна Васильевна не сказала своей дочери, какую цену он положил своему согласию. Она не сказала ей, что обещалась заплатить все его долги да с рук на руки дала ему тысячу рублей серебром. Сверх того, он решительно объявил Анне Васильевне, что не желает встретиться с Инсаровым, которого продолжал величать черногорцем, а приехавши в клуб, безо всякой нужды заговорил о свадьбе Елены с своим партнером, отставным инженерным генералом. «Вы слышали, – промолвил он с притворною небрежностию, – дочь моя, от очень большой учености, вышла замуж за какого-то студента». Генерал посмотрел на него через очки, промычал: «Гм!» – и спросил его, в чем он играет?
XXXII
А день отъезда приближался. Ноябрь уж истекал, проходили последние сроки. Инсаров давно кончил все свои сборы и горел желанием поскорее вырваться из Москвы. И доктор его торопил: «Вам нужен теплый климат, – говорил он ему, – вы здесь не поправитесь». Нетерпенье томило и Елену; ее тревожила бледность Инсарова, его худоба. Она часто с невольным испугом глядела на его изменившиеся черты. Положение ее в родительском доме становилось невыносимым. Мать причитала над ней, как над мертвою, а отец обходился с ней презрительно холодно: близость разлуки втайне мучила и его, но он считал своим долгом, долгом оскорбленного отца, скрывать свои чувства, свою слабость. Анна Васильевна пожелала, наконец, увидеться с Инсаровым. Его провели к ней тихонько, через заднее крыльцо. Когда он вошел к ней в комнату, она долго не могла заговорить с ним, не могла даже решиться взглянуть на него: он сел возле ее кресла и с спокойной почтительностию ожидал первого ее слова. Елена сидела тут же и держала в руке своей руку матери. Анна Васильевна подняла, наконец, глаза, промолвила! «Бог вам судья, Дмитрий Никанорович…» – и остановилась: упреки замерли на ее устах.
– Да вы больны, – воскликнула она. – Елена, он у тебя болен!
– Я был нездоров, Анна Васильевна, – ответил Инсаров, – и теперь еще не совсем поправился; но я надеюсь, родной воздух меня восстановит окончательно.
– Да… Болгария! – пролепетала Анна Васильевна и подумала: «Боже мой, болгар, умирающий, голос как из бочки, глаза как лукошко, скелет скелетом, сюртук на нем с чужого плеча, желт как пупавка – и она его жена, она его любит… да это сон какой-то…» Но она тотчас же спохватилась. – Дмитрий Никанорович, – проговорила она, – вы непременно… непременно должны ехать?
– Непременно, Анна Васильевна.
Анна Васильевна посмотрела на него.
– Ох, Дмитрий Никанорович, не дай вам Бог испытать то, что я теперь испытываю… Но вы обещаетесь мне беречь ее, любить ее… Нужды вы терпеть не будете, пока я жива!
Слезы заглушили ее голос. Она раскрыла свои объятия, и Елена и Инсаров припали к ней.
Роковой день наступил наконец. Положено было, чтобы Елена простилась с родителями дома, а пустилась бы в путь с квартиры Инсарова. Отъезд был назначен в двенадцать часов. За четверть часа до срока пришел Берсенев. Он полагал, что застанет у Инсарова его соотечественников, которые захотят его проводить; но они уже все вперед уехали; уехали также и известные читателю две таинственные личности (они служили свидетелями на свадьбе Инсарова). Портной встретил с поклоном «доброго барина»; он, должно быть, с горя, а может, и с радости, что мебель ему доставалась, сильно выпил; жена скоро его увела. В комнате уже все было прибрано; чемодан, перевязанный веревкой, стоял на полу. Берсенев задумался: много воспоминаний прошло у него по душе.
Двенадцать часов давно пробило, и ямщик уже привел лошадей, а «молодые» все еще не являлись. Наконец послышались торопливые шаги на лестнице, и Елена вошла в сопровождении Инсарова и Шубина. У Елены глаза были красны: она оставила мать свою лежащую в обмороке; прощание было очень тяжело. Елена уже больше недели не видела Берсенева: в последнее время он редко ходил к Стаховым. Она не ожидала его встретить, вскрикнула: «Вы! благодарствуйте!» – и бросилась ему на шею; Инсаров тоже его обнял. Настало томительное молчание. Что могли сказать эти три человека, что чувствовали эти три сердца? Шубин понял необходимость живым звуком, словом прекратить это томление.
– Собралось опять наше трио, – заговорил он, – в последний раз! Покоримся велениям судьбы, помянем прошлое добром – и с Богом на новую жизнь! «С Богом, в дальнюю дорогу», – запел он и остановился. Ему вдруг стало совестно и неловко. Грешно петь там, где лежит покойник; а в это мгновение, в этой комнате, умирало то прошлое, о котором он упомянул, прошлое людей, собравшихся в нее. Оно умирало для возрождения к новой жизни, положим… но все-таки умирало.
– Ну, Елена, – начал Инсаров, обращаясь к жене, – кажется, все? Все заплачено, уложено. Остается только этот чемодан стащить. Хозяин!
Хозяин вошел в комнату вместе с женой и дочерью. Он выслушал, слегка качаясь, приказание Инсарова, взвалил чемодан к себе на плечи и быстро побежал вниз по лестнице, стуча сапогами.
– Теперь, по русскому обычаю, сесть надо, – заметил Инсаров.
Все сели: Берсенев поместился на старом диванчике; Елена села возле него; хозяйка с дочкой прикорнули на пороге. Все умолкли; все улыбались напряженно, и никто не знал, зачем он улыбается; каждому хотелось что-то сказать на прощанье, и каждый (за исключением, разумеется, хозяйки и ее дочери: те только глаза таращили), каждый чувствовал, что в подобные мгновенья позволительно сказать одну лишь пошлость, что всякое значительное, или умное, или просто задушевное слово было бы чем-то неуместным, почти ложным. Инсаров поднялся первый и стал креститься… «Прощай, наша комнатка!» – воскликнул он.
Раздались поцелуи, звонкие, но холодные поцелуи разлуки, напутственные, недосказанные желания, обещания писать, последние, полусдавленные прощальные слова…
Елена, вся в слезах, уже садилась в повозку; Инсаров заботливо покрывал ее ноги ковром; Шубин, Берсенев, хозяин, его жена, дочка с неизбежным платком на голове, дворник, посторонний мастеровой в полосатом халате – все стояли у крыльца, как вдруг на двор влетели богатые сани, запряженные лихим рысаком, и из саней, стряхивая снег с воротника шинели, выскочил Николай Артемьевич.
– Застал еще, слава Богу, – воскликнул он и подбежал к повозке. – Вот тебе, Елена, наше последнее родительское благословение, – сказал он, нагнувшись под балчук, и, достав из кармана сюртука маленький образок, зашитый в бархатную сумочку, надел ей на шею. Она зарыдала и стала целовать его руки, а кучер между тем вынул из передка саней полубутылку шампанского и три бокала.
– Ну! – сказал Николай Артемьевич, а у самого слезы так и капали на бобровый воротник шинели, – надо проводить… и пожелать… – Он стал наливать шампанское; руки его дрожали, пена поднималась через край и падала на снег. Он взял один бокал, а два другие подал Елене и Инсарову, который уже успел поместиться возле нее. – Дай Бог вам… – начал Николай Артемьевич, и не мог договорить – и выпил вино; те тоже выпили. – Теперь вам бы следовало, господа, – прибавил он, обращаясь к Шубину и Берсеневу, но в это мгновение ямщик тронул лошадей. Николай Артемьевич побежал рядом с повозкой. – Смотри ж, пиши нам, – говорил он прерывистым голосом. Елена выставила голову, промолвила: «Прощайте, папенька, Андрей Петрович, Павел Яковлевич, прощайте все, прощай, Россия!» – и откинулась назад. Ямщик взмахнул кнутом, засвистал; повозка, заскрипев полозьями, повернула из ворот направо – и исчезла.
XXXIII
Был светлый апрельский день. По широкой лагуне, отделяющей Венецию от узкой полосы наносного морского песку, называемой Лидо, скользила острогрудая гондола, мерно покачиваясь при каждом толчке падавшего на длинное весло гондольера. Под низенькою ее крышей, на мягких кожаных подушках, сидели Елена и Инсаров.
Черты лица Елены не много изменились со дня ее отъезда из Москвы, но выражение их стало другое: оно было обдуманнее и строже, и глаза глядели смелее. Все ее тело расцвело, и волосы, казалось, пышнее и гуще лежали вдоль белого лба и свежих щек. В одних только губах, когда она не улыбалась, сказывалось едва заметною складкой присутствие тайной, постоянной заботы. У Инсарова, напротив, выражение лица осталось то же, но черты его жестоко изменились. Он похудел, постарел, побледнел, сгорбился; он почти беспрестанно кашлял коротким, сухим кашлем, и впалые глаза его блестели странным блеском. На пути из России Инсаров пролежал почти два месяца больной в Вене и только в конце марта приехал с женой в Венецию: он оттуда надеялся пробраться через Зару в Сербию, в Болгарию; другие пути ему были закрыты. Война уже кипела на Дунае; Англия и Франция объявили России войну, все славянские земли волновались и готовились к восстанию.
Гондола пристала к внутреннему краю Лидо. Елена и Инсаров отправились по узкой песчаной дорожке, обсаженной чахоточными деревцами (их каждый год сажают, и они умирают каждый год), на внешний край Лидо, к морю.
Они пошли по берегу. Адриатика катила перед ними свои мутно-синие волны; они пенились, шипели, набегали и, скатываясь назад, оставляли на песке мелкие раковины и обрывки морских трав.
– Какое унылое место! – заметила Елена. – Я боюсь, не слишком ли здесь холодно для тебя; но я догадываюсь, зачем ты хотел сюда приехать.
– Холодно! – возразил с быстрою, но горькою усмешкой Инсаров. – Хорош я буду солдат, коли мне холоду бояться. А приехал я сюда… я тебе скажу зачем. Я гляжу на это море, и мне кажется, что отсюда ближе до моей родины. Ведь она там, – прибавил он, протянув руку на восток. – Вот и ветер оттуда тянет.
– Не пригонит ли этот ветер тот корабль, который ты ждешь? – сказала Елена. – Вот белеет парус, уж не он ли это?
Инсаров посмотрел в морскую даль, куда показывала ему Елена.
– Рендич обещался через неделю все нам устроить, – заметил он. – На него, кажется, положиться можно… Слышала ты, Елена, – прибавил он с внезапным одушевлением, – говорят, бедные далматские рыбаки пожертвовали своими свинчатками, – ты знаешь, этими тяжестями, от которых невода на дно опускаются, – на пули! Денег у них не было, они только и живут что рыбною ловлей; но они с радостию отдали свое последнее достояние и голодают теперь. Что за народ!
– Aufgepasst![131 - Берегись! (нем.)] – крикнул сзади их надменный голос. Раздался глухой топот лошадиных копыт, и австрийский офицер, в короткой серой тюнике и зеленом картузе, проскакал мимо их… Они едва успели посторониться.
Инсаров мрачно посмотрел ему вслед.
– Он не виноват, – промолвила Елена, – ты знаешь, у них здесь нет другого места, чтобы наезжать лошадей.
– Он не виноват, – возразил Инсаров, – да кровь он мне расшевелил своим криком, своими усами, своим картузом, всей своей наружностью. Вернемся.
– Вернемся, Дмитрий. Притом здесь в самом деле дует. Ты не поберегся после твоей московской болезни и поплатился за это в Вене. Надо теперь быть осторожнее.
Инсаров промолчал, только прежняя горькая усмешка скользнула по его губам.
– Хочешь? – продолжала Елена, – покатаемся по Canal Grande[132 - Большому каналу (итал.).]. Ведь мы с тех пор, как здесь, хорошенько не видели Венеции. А вечером поедем в театр: у меня есть два билета на ложу. Говорят, новую оперу дают. Хочешь, мы нынешний день отдадим друг другу, позабудем о политике, о войне, обо всем, будем знать только одно: что мы живем, дышим, думаем вместе, что мы соединены навсегда… Хочешь?
– Ты этого хочешь, Елена, – отвечал Инсаров, – стало быть, и я этого хочу.
– Я это знала, – заметила с улыбкой Елена. – Пойдем, пойдем.
Они вернулись к гондоле, сели и велели везти себя, не спеша, по Canal Grande.
– Скоро… если только папенька… Он хочет жаловаться, он грозится развести нас.
Анна Васильевна подняла глаза к небу.
– Нет, Леночка, он не будет жаловаться. Я бы сама ни за что не согласилась на эту свадьбу, скорее умерла бы; да ведь сделанного не воротишь, а я не дам позорить мою дочь.
Так прошло несколько дней. Наконец Анна Васильевна собралась с духом и в один вечер заперлась с своим мужем наедине в спальне. Все в доме притихло и приникло. Сперва ничего не было слышно; потом загудел голос Николая Артемьевича, потом завязался спор, поднялись крики, почудились даже стенания… Уже Шубин вместе с горничными и Зоей собирался снова явиться на выручку; но шум в спальне стал понемногу ослабевать, перешел в говор – и умолк. Только изредка раздавались слабые всхлипывания – и те прекратились. Зазвенели ключи, послышался визг отворяемого бюро… Дверь раскрылась, и появился Николай Артемьевич. Сурово посмотрел он на всех встречных и отправился в клуб; а Анна Васильевна потребовала к себе Елену, крепко обняла ее и, залившись горькими слезами, промолвила:
– Все улажено, он не будет поднимать истории, и ничего теперь тебе не мешает уехать… бросить нас.
– Вы позволите Дмитрию прийти благодарить вас? – спросила Елена свою мать, как только та немного успокоилась.
– Подожди, душа моя, не могу я теперь видеть нашего разлучника… Перед отъездом успеем.
– Перед отъездом, – печально повторила Елена.
Николай Артемьевич согласился «не поднимать истории»; но Анна Васильевна не сказала своей дочери, какую цену он положил своему согласию. Она не сказала ей, что обещалась заплатить все его долги да с рук на руки дала ему тысячу рублей серебром. Сверх того, он решительно объявил Анне Васильевне, что не желает встретиться с Инсаровым, которого продолжал величать черногорцем, а приехавши в клуб, безо всякой нужды заговорил о свадьбе Елены с своим партнером, отставным инженерным генералом. «Вы слышали, – промолвил он с притворною небрежностию, – дочь моя, от очень большой учености, вышла замуж за какого-то студента». Генерал посмотрел на него через очки, промычал: «Гм!» – и спросил его, в чем он играет?
XXXII
А день отъезда приближался. Ноябрь уж истекал, проходили последние сроки. Инсаров давно кончил все свои сборы и горел желанием поскорее вырваться из Москвы. И доктор его торопил: «Вам нужен теплый климат, – говорил он ему, – вы здесь не поправитесь». Нетерпенье томило и Елену; ее тревожила бледность Инсарова, его худоба. Она часто с невольным испугом глядела на его изменившиеся черты. Положение ее в родительском доме становилось невыносимым. Мать причитала над ней, как над мертвою, а отец обходился с ней презрительно холодно: близость разлуки втайне мучила и его, но он считал своим долгом, долгом оскорбленного отца, скрывать свои чувства, свою слабость. Анна Васильевна пожелала, наконец, увидеться с Инсаровым. Его провели к ней тихонько, через заднее крыльцо. Когда он вошел к ней в комнату, она долго не могла заговорить с ним, не могла даже решиться взглянуть на него: он сел возле ее кресла и с спокойной почтительностию ожидал первого ее слова. Елена сидела тут же и держала в руке своей руку матери. Анна Васильевна подняла, наконец, глаза, промолвила! «Бог вам судья, Дмитрий Никанорович…» – и остановилась: упреки замерли на ее устах.
– Да вы больны, – воскликнула она. – Елена, он у тебя болен!
– Я был нездоров, Анна Васильевна, – ответил Инсаров, – и теперь еще не совсем поправился; но я надеюсь, родной воздух меня восстановит окончательно.
– Да… Болгария! – пролепетала Анна Васильевна и подумала: «Боже мой, болгар, умирающий, голос как из бочки, глаза как лукошко, скелет скелетом, сюртук на нем с чужого плеча, желт как пупавка – и она его жена, она его любит… да это сон какой-то…» Но она тотчас же спохватилась. – Дмитрий Никанорович, – проговорила она, – вы непременно… непременно должны ехать?
– Непременно, Анна Васильевна.
Анна Васильевна посмотрела на него.
– Ох, Дмитрий Никанорович, не дай вам Бог испытать то, что я теперь испытываю… Но вы обещаетесь мне беречь ее, любить ее… Нужды вы терпеть не будете, пока я жива!
Слезы заглушили ее голос. Она раскрыла свои объятия, и Елена и Инсаров припали к ней.
Роковой день наступил наконец. Положено было, чтобы Елена простилась с родителями дома, а пустилась бы в путь с квартиры Инсарова. Отъезд был назначен в двенадцать часов. За четверть часа до срока пришел Берсенев. Он полагал, что застанет у Инсарова его соотечественников, которые захотят его проводить; но они уже все вперед уехали; уехали также и известные читателю две таинственные личности (они служили свидетелями на свадьбе Инсарова). Портной встретил с поклоном «доброго барина»; он, должно быть, с горя, а может, и с радости, что мебель ему доставалась, сильно выпил; жена скоро его увела. В комнате уже все было прибрано; чемодан, перевязанный веревкой, стоял на полу. Берсенев задумался: много воспоминаний прошло у него по душе.
Двенадцать часов давно пробило, и ямщик уже привел лошадей, а «молодые» все еще не являлись. Наконец послышались торопливые шаги на лестнице, и Елена вошла в сопровождении Инсарова и Шубина. У Елены глаза были красны: она оставила мать свою лежащую в обмороке; прощание было очень тяжело. Елена уже больше недели не видела Берсенева: в последнее время он редко ходил к Стаховым. Она не ожидала его встретить, вскрикнула: «Вы! благодарствуйте!» – и бросилась ему на шею; Инсаров тоже его обнял. Настало томительное молчание. Что могли сказать эти три человека, что чувствовали эти три сердца? Шубин понял необходимость живым звуком, словом прекратить это томление.
– Собралось опять наше трио, – заговорил он, – в последний раз! Покоримся велениям судьбы, помянем прошлое добром – и с Богом на новую жизнь! «С Богом, в дальнюю дорогу», – запел он и остановился. Ему вдруг стало совестно и неловко. Грешно петь там, где лежит покойник; а в это мгновение, в этой комнате, умирало то прошлое, о котором он упомянул, прошлое людей, собравшихся в нее. Оно умирало для возрождения к новой жизни, положим… но все-таки умирало.
– Ну, Елена, – начал Инсаров, обращаясь к жене, – кажется, все? Все заплачено, уложено. Остается только этот чемодан стащить. Хозяин!
Хозяин вошел в комнату вместе с женой и дочерью. Он выслушал, слегка качаясь, приказание Инсарова, взвалил чемодан к себе на плечи и быстро побежал вниз по лестнице, стуча сапогами.
– Теперь, по русскому обычаю, сесть надо, – заметил Инсаров.
Все сели: Берсенев поместился на старом диванчике; Елена села возле него; хозяйка с дочкой прикорнули на пороге. Все умолкли; все улыбались напряженно, и никто не знал, зачем он улыбается; каждому хотелось что-то сказать на прощанье, и каждый (за исключением, разумеется, хозяйки и ее дочери: те только глаза таращили), каждый чувствовал, что в подобные мгновенья позволительно сказать одну лишь пошлость, что всякое значительное, или умное, или просто задушевное слово было бы чем-то неуместным, почти ложным. Инсаров поднялся первый и стал креститься… «Прощай, наша комнатка!» – воскликнул он.
Раздались поцелуи, звонкие, но холодные поцелуи разлуки, напутственные, недосказанные желания, обещания писать, последние, полусдавленные прощальные слова…
Елена, вся в слезах, уже садилась в повозку; Инсаров заботливо покрывал ее ноги ковром; Шубин, Берсенев, хозяин, его жена, дочка с неизбежным платком на голове, дворник, посторонний мастеровой в полосатом халате – все стояли у крыльца, как вдруг на двор влетели богатые сани, запряженные лихим рысаком, и из саней, стряхивая снег с воротника шинели, выскочил Николай Артемьевич.
– Застал еще, слава Богу, – воскликнул он и подбежал к повозке. – Вот тебе, Елена, наше последнее родительское благословение, – сказал он, нагнувшись под балчук, и, достав из кармана сюртука маленький образок, зашитый в бархатную сумочку, надел ей на шею. Она зарыдала и стала целовать его руки, а кучер между тем вынул из передка саней полубутылку шампанского и три бокала.
– Ну! – сказал Николай Артемьевич, а у самого слезы так и капали на бобровый воротник шинели, – надо проводить… и пожелать… – Он стал наливать шампанское; руки его дрожали, пена поднималась через край и падала на снег. Он взял один бокал, а два другие подал Елене и Инсарову, который уже успел поместиться возле нее. – Дай Бог вам… – начал Николай Артемьевич, и не мог договорить – и выпил вино; те тоже выпили. – Теперь вам бы следовало, господа, – прибавил он, обращаясь к Шубину и Берсеневу, но в это мгновение ямщик тронул лошадей. Николай Артемьевич побежал рядом с повозкой. – Смотри ж, пиши нам, – говорил он прерывистым голосом. Елена выставила голову, промолвила: «Прощайте, папенька, Андрей Петрович, Павел Яковлевич, прощайте все, прощай, Россия!» – и откинулась назад. Ямщик взмахнул кнутом, засвистал; повозка, заскрипев полозьями, повернула из ворот направо – и исчезла.
XXXIII
Был светлый апрельский день. По широкой лагуне, отделяющей Венецию от узкой полосы наносного морского песку, называемой Лидо, скользила острогрудая гондола, мерно покачиваясь при каждом толчке падавшего на длинное весло гондольера. Под низенькою ее крышей, на мягких кожаных подушках, сидели Елена и Инсаров.
Черты лица Елены не много изменились со дня ее отъезда из Москвы, но выражение их стало другое: оно было обдуманнее и строже, и глаза глядели смелее. Все ее тело расцвело, и волосы, казалось, пышнее и гуще лежали вдоль белого лба и свежих щек. В одних только губах, когда она не улыбалась, сказывалось едва заметною складкой присутствие тайной, постоянной заботы. У Инсарова, напротив, выражение лица осталось то же, но черты его жестоко изменились. Он похудел, постарел, побледнел, сгорбился; он почти беспрестанно кашлял коротким, сухим кашлем, и впалые глаза его блестели странным блеском. На пути из России Инсаров пролежал почти два месяца больной в Вене и только в конце марта приехал с женой в Венецию: он оттуда надеялся пробраться через Зару в Сербию, в Болгарию; другие пути ему были закрыты. Война уже кипела на Дунае; Англия и Франция объявили России войну, все славянские земли волновались и готовились к восстанию.
Гондола пристала к внутреннему краю Лидо. Елена и Инсаров отправились по узкой песчаной дорожке, обсаженной чахоточными деревцами (их каждый год сажают, и они умирают каждый год), на внешний край Лидо, к морю.
Они пошли по берегу. Адриатика катила перед ними свои мутно-синие волны; они пенились, шипели, набегали и, скатываясь назад, оставляли на песке мелкие раковины и обрывки морских трав.
– Какое унылое место! – заметила Елена. – Я боюсь, не слишком ли здесь холодно для тебя; но я догадываюсь, зачем ты хотел сюда приехать.
– Холодно! – возразил с быстрою, но горькою усмешкой Инсаров. – Хорош я буду солдат, коли мне холоду бояться. А приехал я сюда… я тебе скажу зачем. Я гляжу на это море, и мне кажется, что отсюда ближе до моей родины. Ведь она там, – прибавил он, протянув руку на восток. – Вот и ветер оттуда тянет.
– Не пригонит ли этот ветер тот корабль, который ты ждешь? – сказала Елена. – Вот белеет парус, уж не он ли это?
Инсаров посмотрел в морскую даль, куда показывала ему Елена.
– Рендич обещался через неделю все нам устроить, – заметил он. – На него, кажется, положиться можно… Слышала ты, Елена, – прибавил он с внезапным одушевлением, – говорят, бедные далматские рыбаки пожертвовали своими свинчатками, – ты знаешь, этими тяжестями, от которых невода на дно опускаются, – на пули! Денег у них не было, они только и живут что рыбною ловлей; но они с радостию отдали свое последнее достояние и голодают теперь. Что за народ!
– Aufgepasst![131 - Берегись! (нем.)] – крикнул сзади их надменный голос. Раздался глухой топот лошадиных копыт, и австрийский офицер, в короткой серой тюнике и зеленом картузе, проскакал мимо их… Они едва успели посторониться.
Инсаров мрачно посмотрел ему вслед.
– Он не виноват, – промолвила Елена, – ты знаешь, у них здесь нет другого места, чтобы наезжать лошадей.
– Он не виноват, – возразил Инсаров, – да кровь он мне расшевелил своим криком, своими усами, своим картузом, всей своей наружностью. Вернемся.
– Вернемся, Дмитрий. Притом здесь в самом деле дует. Ты не поберегся после твоей московской болезни и поплатился за это в Вене. Надо теперь быть осторожнее.
Инсаров промолчал, только прежняя горькая усмешка скользнула по его губам.
– Хочешь? – продолжала Елена, – покатаемся по Canal Grande[132 - Большому каналу (итал.).]. Ведь мы с тех пор, как здесь, хорошенько не видели Венеции. А вечером поедем в театр: у меня есть два билета на ложу. Говорят, новую оперу дают. Хочешь, мы нынешний день отдадим друг другу, позабудем о политике, о войне, обо всем, будем знать только одно: что мы живем, дышим, думаем вместе, что мы соединены навсегда… Хочешь?
– Ты этого хочешь, Елена, – отвечал Инсаров, – стало быть, и я этого хочу.
– Я это знала, – заметила с улыбкой Елена. – Пойдем, пойдем.
Они вернулись к гондоле, сели и велели везти себя, не спеша, по Canal Grande.