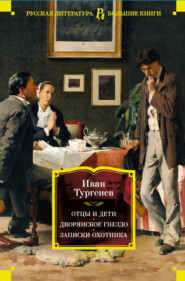По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вешние воды. Накануне (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. Кротость и мягкость весны идут к Венеции, как яркое солнце лета к великолепной Генуе, как золото и пурпур осени к великому старцу – Риму. Подобно весне, красота Венеции и трогает и возбуждает желания; она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, не загадочного, но таинственного счастия. Все в ней светло, понятно, и все обвеяно дремотною дымкой какой-то влюбленной тишины: все в ней молчит, и все приветно; все в ней женственно, начиная с самого имени: недаром ей одной дано название Прекрасной. Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога; есть что-то сказочное, что-то пленительно странное в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов, в бесшумном беге гондол, в отсутствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гама. «Венеция умирает, Венеция опустела», – говорят вам ее жители; но, быть может, этой-то последней прелести, прелести увядания в самом расцвете и торжества красоты, недоставало ей. Кто ее не видел, тот ее не знает: ни Каналетти[133 - Каналетти (или Каналетто) Антонио (1697–1768) – венецианский живописец.], ни Гварди[134 - Гварди Франческо (1712–1793) – венецианский живописец.] (не говоря уже о новейших живописцах) не в силах передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок. Отжившему, разбитому жизнию не для чего посещать Венецию: она будет ему горька, как память о несбывшихся мечтах первоначальных дней; но сладка будет она тому, в ком кипят еще силы, кто чувствует себя благополучным; пусть он принесет свое счастие под ее очарованные небеса, и как бы оно ни было лучезарно, она еще озолотит его неувядаемым сиянием.
Гондола, в которой сидели Инсаров и Елена, тихонько минула Riva dei Schiavoni[135 - Набережную Чиавони (итал.).], Дворец дожей[136 - Дож – выборный пожизненный глава торговой республики Венеции.], Пиадзетту и вошла в Большой канал. С обеих сторон потянулись мраморные дворцы; они, казалось, тихо плыли мимо, едва давая взору обнять и понять все свои красоты. Елена чувствовала себя глубоко счастливою: в лазури ее неба стояло одно темное облачко – и оно удалялось: Инсарову было гораздо лучше в тот день. Они доплыли до крутой арки Риальто и вернулись назад. Елена боялась холода церквей для Инсарова; но она вспомнила об академии delle Belle arti[137 - Изящных искусств (итал.).] и велела гондольеру ехать туда. Они скоро обошли все залы этого небольшого музея. Не будучи ни знатоками, ни дилетантами, они не останавливались перед каждой картиной, не насиловали себя: какая-то светлая веселость неожиданно нашла на них. Им вдруг все показалось очень забавно. (Детям хорошо известно это чувство.) К великому скандалу трех посетителей англичан, Елена хохотала до слез над святым Марком Тинторетта[138 - Тинторе?тто (1518–1594) – итальянский живописец. Его картина, о которой идет речь, «Чудо святого Марка».], прыгающим с неба, как лягушка в воду, для спасения истязаемого раба; с своей стороны, Инсаров пришел в восторг от спины и икр того энергического мужа в зеленой хламиде, который стоит на первом плане тициановского Вознесения[139 - Тициановского Вознесения – картина «Вознесение» итальянского художника Тициана (1477–1576).] и воздымает руки вослед Мадонны; зато сама Мадонна – прекрасная, сильная женщина, спокойно и величественно стремящаяся в лоно Бога-Отца, – поразила и Инсарова и Елену; понравилась им также строгая и святая картина старика Чима да Конельяно[140 - Чима да Конельяно – прозвище Джованни Баттиста (1459–1517/18) – итальянский живописец.]. Выходя из академии, они еще раз оглянулись на шедших за ними англичан с длинными, заячьими зубами и висячими бакенбардами – и засмеялись; увидали своего гондольера с куцею курткой и короткими панталонами – и засмеялись; увидали торговку с узелком седых волос на самой вершине головы – и засмеялись пуще прежнего; посмотрели, наконец, друг другу в лицо – и залились смехом, а как только сели в гондолу – крепко, крепко пожали друг другу руку. Они приехали в гостиницу, побежали в свою комнату и велели подать себе обедать. Веселость не покидала их и за столом. Они потчевали друг друга, пили за здоровье московских приятелей, рукоплескали камериеру за вкусное блюдо рыбы и все требовали от него живых frutti di mare[141 - Морских плодов, то есть съедобных ракушек (итал.).]; камериере пожимался и шаркал ногами, а выходя от них, покачивал головой и раз даже со вздохом шепнул: poveretti! (бедняжки!) После обеда они отправились в театр.
В театре давали оперу Верди, довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую облететь все европейские сцены, оперу, хорошо известную нам, русским, – Травиату. Сезон в Венеции минул, и все певцы не возвышались над уровнем посредственности; каждый кричал, во сколько хватало сил. Роль Виолетты исполняла артистка, не имевшая репутации и, судя по холодности к ней публики, мало любимая, но не лишенная дарования. Это была молодая, не очень красивая, черноглазая девушка с не совсем ровным и уже разбитым голосом. Одета она была до наивности пестро и плохо: красная сетка покрывала ее волосы, платье из полинялого голубого атласа давило ей грудь, толстые шведские перчатки восходили до острых локтей; да и где ж было ей, дочери какого-нибудь бергамского пастуха, знать, как одеваются парижские камелии! И держаться на сцене она не умела; но в ее игре было много правды и бесхитростной простоты, и пела она с той особенной страстностью выражения и ритма, которая дается одним италиянцам. Елена и Инсаров сидели вдвоем в темной ложе, возле самой сцены; игривое расположение духа, которое нашло на них в академии delle Belle arti, все еще не проходило. Когда отец несчастного юноши, попавшего в сети соблазнительницы, появился на сцене в гороховом фраке и взъерошенном белом парике, раскрыл криво рот и, сам заранее смущаясь, выпустил унылое басовое тремоло, они чуть оба не прыснули… Но игра Виолетты подействовала на них.
– Этой бедной девушке почти не хлопают, – сказала Елена, – а я в тысячу раз предпочитаю ее какой-нибудь самоуверенной второстепенной знаменитости, которая бы ломалась и кривлялась и все била бы на эффект. Этой как будто самой не до шутки; посмотри, она не замечает публики.
Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту.
– Да, – промолвил он, – она не шутит: смертью пахнет.
Елена умолкла.
Начался третий акт. Занавес поднялся… Елена дрогнула при виде этой постели, этих завешенных гардин, склянок с лекарством, заслоненной лампы… Вспомнилось ей близкое прошедшее… «А будущее? а настоящее?» – мелькнуло у ней в голове. Как нарочно, в ответ на притворный кашель актрисы раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсарова… Елена украдкой взглянула на него и тотчас же придала своим чертам выражение безмятежное и спокойное; Инсаров ее понял и сам начал улыбаться и чуть-чуть подтягивать пению.
Но он скоро притих. Игра Виолетты становилась все лучше, все свободнее. Она отбросила все постороннее, все ненужное и нашла себя: редкое, высочайшее счастие для художника! Она вдруг переступила ту черту, которую определить невозможно, но за которой живет красота. Публика встрепенулась, удивилась. Некрасивая девушка с разбитым голосом начинала забирать ее в руки, овладевать ею. Но уже и голос певицы не звучал как разбитый: он согрелся и окреп. Явился «Альфредо»; радостный крик Виолетты чуть не поднял той бури, имя которой fanatismo[142 - Фанатизм (итал.).] и перед которой ничто все наши северные завывания… Мгновение – и публика опять замерла. Начался дуэт, лучший нумер оперы, в котором удалось композитору выразить все сожаления безумно растраченной молодости, последнюю борьбу отчаянной и бессильной любви. Увлеченная, подхваченная дуновением общего сочувствия, с слезами художнической радости и действительного страдания на глазах, певица отдалась поднимавшей ее волне, лицо ее преобразилось, и перед грозным призраком внезапно приблизившейся смерти с таким, до неба достигающим, порывом моленья исторглись у ней слова: «Lascia mi vivere… morir si giovane!» (дай мне жить… умереть такой молодой!), что весь театр затрещал от бешеных рукоплесканий и восторженных кликов.
Елена вся похолодела. Она начала тихо искать своею рукою руку Инсарова, нашла ее и стиснула ее крепко. Он ответил на ее пожатие; но ни она не посмотрела на него, ни он на нее. Это пожатие не походило на то, которым они, несколько часов тому назад, приветствовали друг друга в гондоле.
Они поплыли в свою гостиницу опять по Canal Grande. Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов; они отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой мглою ровной тени. Гондолы с своими маленькими красными огонечками, казалось, еще неслышнее и быстрее бежали; таинственно блистали их стальные гребни, таинственно вздымались и опускались весла над серебряными рыбками возмущенной струи; там, сям коротко и негромко восклицали гондольеры (они теперь никогда не поют); других звуков почти не было слышно. Гостиница, где жили Инсаров и Елена, находилась на Riva dei Schiavoni; не доезжая до нее, они вышли из гондолы и прошлись несколько раз вокруг площади святого Марка, под арками, где перед крошечными кофейными толпилось множество праздного народа. Ходить вдвоем с любимым существом в чужом городе, среди чужих, как-то особенно приятно: все кажется прекрасным и значительным, всем желаешь добра, мира и того же счастия, которым исполнен сам. Но Елена уже не могла беспечно предаваться чувству своего счастия: сердце ее, потрясенное недавними впечатлениями, не могло успокоиться; а Инсаров, проходя мимо Дворца дожей, указал молча на жерла австрийских пушек, выглядывавших из-под нижних сводов, и надвинул шляпу на брови. Притом он чувствовал себя усталым – и, взглянув в последний раз на церковь св. Марка, на ее куполы, где под лучами луны на голубоватом свинце зажигались пятна фосфорического света, они медленно вернулись домой.
Комнатка их выходила окнами на широкую лагуну, расстилающуюся от Riva dei Schiavoni до Джиудекки. Почти напротив их гостиницы возвышалась остроконечная башня св. Георгия; направо, высоко в воздухе, сверкал золотой шар Доганы – и, разубранная как невеста, стояла красивейшая из церквей, Redentore Палладия[143 - Палладио Андреа (1508–1580) – итальянский архитектор.]; налево чернели мачты и реи кораблей, трубы пароходов; кое-где висел, как большое крыло, наполовину подобранный парус, и вымпела едва шевелились. Инсаров присел перед окном, но Елена не дала ему долго любоваться видом; у него вдруг показался жар, его охватила какая-то пожирающая слабость. Она уложила его в постель и, дождавшись пока он заснул, тихонько вернулась к окну. О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами! «О Боже! – думала Елена, – зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни… одни… а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах, – все, все нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? («Morir si giovane», – зазвучало у нее в душе…) Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти… О Боже! неужели нельзя верить чуду? – Она положила голову на сжатые руки. – Довольно? – шепнула она. – Неужели уже довольно! Я была счастлива не одни только минуты, не часы, не целые дни – нет, целые недели сряду. А с какого права?» Ей стало страшно своего счастия. «А если этого нельзя? – подумала она. – Если это не дается даром? Ведь это было небо… а мы люди, бедные, грешные люди… Morir si giovane… O темный призрак, удались! Не для меня одной нужна его жизнь!»
«Но если это – наказание, – подумала она опять, – если мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину? Моя совесть молчала, она теперь молчит, но разве это доказательство невинности? О Боже, неужели мы так преступны! Неужели ты, создавший эту ночь, это небо, захочешь наказать нас за то, что мы любили? А если так, если он виноват, если я виновата, – прибавила она с невольным порывом, – так дай ему, о Боже, дай нам обоим умереть по крайней мере честной, славной смертью – там, на родных его полях, а не здесь, не в этой глухой комнате».
«А горе бедной, одинокой матери?» – спросила она себя и сама смутилась и не нашла возражений на свой вопрос. Елена не знала, что счастие каждого человека основано на несчастии другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя – пьедестала, невыгоды и неудобства других.
«Рендич!» – пролепетал сквозь сон Инсаров.
Елена подошла к нему на цыпочках, нагнулась над ним и отерла пот с его лица. Он пометался немного на подушке и затих.
Она опять подошла к окну, и опять взяли ее думы. Она начала самое себя уговаривать и уверять себя, что нет причин бояться. Она даже устыдилась своей слабости. «Разве есть опасность? разве ему не лучше? – шепнула она. – Ведь если бы мы не были сегодня в театре, мне бы все это в голову не пришло». В это мгновение она увидела высоко над водой белую чайку; ее, вероятно, вспугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом, как бы высматривая место, где бы опуститься. «Вот если она полетит сюда, – подумала Елена, – это будет хороший знак…» Чайка закружилась на месте, сложила крылья – и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль. Елена вздрогнула, а потом ей стало совестно, что она вздрогнула, и она, не раздеваясь, прилегла на постель возле Инсарова, который дышал тяжело и часто.
XXXIV
Инсаров проснулся поздно, с глухою болью в голове, с чувством, как он выразился, безобразной слабости во всем теле. Однако он встал.
– Рендич не приходил? – было его первым вопросом.
– Нет еще, – отвечала Елена и подала ему последний нумер «Osservatore Triestino»[144 - «Триестинский наблюдатель» – итальянская газета.], в котором много говорилось о войне, о славянских землях, о княжествах. Инсаров начал читать; она занялась приготовлением для него кофе… Кто-то постучался в дверь.
«Рендич», – подумали оба, но стучавший проговорил по-русски: «Можно войти?» Елена и Инсаров переглянулись с изумлением, и, не дождавшись их ответа, вошел в комнату щегольски одетый человек, с маленьким, остреньким лицом и бойкими глазками. Он весь сиял, как будто только что выиграл огромные деньги или услышал приятнейшую новость.
Инсаров приподнялся со стула.
– Вы не узнаете меня, – заговорил незнакомец, развязно подходя к нему и любезно кланяясь Елене, – Лупояров, помните, мы в Москве встретились у Е… х?
– Да, у Е… х, – произнес Инсаров.
– Как же, как же! Прошу вас представить меня вашей супруге. Сударыня, я всегда глубоко уважал Дмитрия Васильевича… (он поправился): Никанора Васильевича и очень счастлив, что имею, наконец, честь с вами познакомиться. Вообразите, – продолжал он, обратившись к Инсарову, – я только вчера вечером узнал, что вы здесь. Я тоже стою в этой гостинице. Что это за город, эта Венеция – поэзия, да и только! Одно ужасно: проклятые австрияки на каждом шагу! уж эти мне австрияки! Кстати, слышали вы, на Дунае произошло решительное сражение: триста турецких офицеров убито, Силистрия взята, Сербия уже объявила себя независимою. Не правда ли, вы, как патриот, должны быть в восторге? Во мне самом славянская кровь так и кипит! Однако я советую вам быть осторожнее; я уверен, что за вами наблюдают. Шпионство здесь ужасное! Вчера подходит ко мне какой-то подозрительный человек и спрашивает: «Русский ли я?» Я ему сказал, что я датчанин… А только вы, должно быть, нездоровы, любезнейший Никанор Васильевич. Вам надобно полечиться; сударыня, вы должны полечить вашего мужа. Я вчера, как сумасшедший, бегал по дворцам и по церквам – ведь вы были во Дворце дожей? Что за богатство везде! Особенно эта большая зала и место Марино Фалиеро[145 - Марино Фалиеро (1278–1355) – венецианский дож, казненный в 1356 году за организацию республиканского заговора. Во Дворце дожей среди портретов других дожей место Фалиеро оставлено пустым и снабжено надписью: «Здесь место Фалиеро, обезглавленного за преступление».], так и стоит: «Decapitati pro criminibus»[146 - «Обезглавленного за преступления» (лат.).]. Я был и в знаменитых тюрьмах: вот где душа моя возмутилась – я, вы, может быть, помните – всегда любил заниматься социальными вопросами и восставал против аристократии – вот бы я куда привел защитников аристократии: в эти тюрьмы; справедливо сказал Байрон: «I stood in Venice on the bridge of sighs»[147 - «Я стоял в Венеции на Мосту вздохов» (англ.) – из поэмы «Странствия Чайльд-Гарольда» Байрона.]; впрочем, и он был аристократ. Я всегда был за прогресс. Молодое поколение все за прогресс. А каковы англо-французы? Посмотрим, много ли они сделают: Бустрапа?[148 - Бустрапа? – презрительное прозвище Наполеона III.] и Пальмерстон[149 - Пальмерстон Генри (1784–1865) – английский государственный деятель.]. Вы знаете, Пальмерстон сделался первым министром. Нет, что ни говорите, русский кулак не шутка. Ужасный плут этот Бустрапа! Хотите, я вам дам «Les Ch?timents» de Victor Hugo[150 - «Возмездие» В. Гюго (франц.). – Гюго Виктор (1802–1885) – французский писатель.] – удивительно! «L’avenir – le gendarme de Dieu»[151 - «Будущее – исполнитель провидения» (франц.) – последняя строка стихотворения В. Гюго «Открыто на ночь».] – смело немножко сказано, но сила, сила. Хорошо также сказал князь Вяземский: «Европа твердит: Баш-Кадык-Лар, глаз не сводя с Синопа»[152 - Из стихотворения русского поэта П. А. Вяземского (1792–1878) «К оружию».]. Я люблю поэзию. У меня также есть последняя книжка Прудона[153 - Прудон Пьер-Жозеф (1809–1865) – французский утопический социалист, один из основателей анархизма.], у меня все есть. Не знаю, как вы, а я рад войне; только как бы домой не потребовали, а я собираюсь отсюда во Флоренцию, в Рим: во Францию нельзя, так я думаю в Испанию – женщины там, говорят, удивительные, только бедность и насекомых много. Махнул бы в Калифорнию, нам, русским, все нипочем, да я одному редактору дал слово изучить в подробности вопрос о торговле в Средиземном море. Вы скажете, предмет неинтересный, специальный, но нам нужны, нужны специалисты, довольно мы философствовали, теперь нужна практика, практика… А вы очень нездоровы, Никанор Васильевич, я вас, может быть, утомляю, но все равно, я еще посижу немножко…
И долго еще трещал таким образом Лупояров и, уходя, обещался побывать.
Измученный нежданным посещением, Инсаров лег на диван.
– Вот, – с горечью промолвил он, взглянув на Елену, – вот ваше молодое поколение! Иной важничает и рисуется, а в душе такой же свистун, как этот господин.
Елена не возражала своему мужу: в это мгновение ее гораздо больше беспокоила слабость Инсарова, чем состояние всего молодого поколения России… Она села возле него, взяла работу. Он закрыл глаза и лежал неподвижно, весь бледный и худой. Елена взглянула на его резко обрисовавшийся профиль, на его вытянутые руки, и внезапный страх защемил ей сердце.
– Дмитрий… – начала она.
Он встрепенулся.
– Что? Рендич приехал?
– Нет еще… но как ты думаешь – у тебя жар, ты, право, не совсем здоров, не послать ли за доктором?
– Тебя этот болтун напугал. Не нужно. Я отдохну немного, и все пройдет. Мы после обеда опять поедем… куда-нибудь.
Прошло два часа… Инсаров все лежал на диване, но заснуть не мог, хотя не открывал глаз. Елена не отходила от него; она уронила работу на колени и не шевелилась.
– Отчего ты не спишь? – спросила она его наконец.
– А вот погоди. – Он взял ее руку и положил ее себе под голову. – Вот так… хорошо. Разбуди меня сейчас, как только Рендич приедет. Если он скажет, что корабль готов, мы тотчас отправимся… Надобно все уложить.
– Уложить недолго, – отвечала Елена.
– Что этот человек болтал о сражении, о Сербии, – проговорил, спустя немного, Инсаров. – Должно быть, все выдумал. Но надо, надо ехать. Терять времени нельзя… Будь готова.
Он заснул, и все затихло в комнате.
Елена прислонилась головою к спинке кресла и долго глядела в окно. Погода испортилась; ветер поднялся. Большие белые тучи быстро неслись по небу, тонкая мачта качалась в отдалении, длинный вымпел с красным крестом беспрестанно взвивался, падал и взвивался снова. Маятник старинных часов стучал тяжко, с каким-то печальным шипением. Елена закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь; понемногу и она заснула.
Странный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно: ей бы хотелось узнать, что это за люди и зачем она с ними? Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают – уж это не пруд, а беспокойное море: огромные, лазоревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное поднимается со дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками… Елена узнает их лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь налетает на волны… все закружилось, смешалось…
Елена осматривается: по-прежнему все бело вокруг; но это снег, снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке; она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. «Разве она не умерла?» – думает она.
– Катя, куда это мы с тобой едем?
Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами… Катя, Катя, это Москва? Нет, думает Елена, это Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий, как в улье; там душно, тесно, – там Дмитрий заперт. Я должна его освободить… Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. Елена, Елена! слышится голос из бездны.
«Елена!» – раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый, как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас, смешанный с каким-то тоскливым умилением, выражался на его внезапно изменившемся лице.
– Елена! – произнес он, – я умираю.
Она с криком упала на колени и прижалась к его груди.
– Все кончено, – повторил Инсаров, – я умираю… Прощай, моя бедная! Прощай, моя родина!..
Гондола, в которой сидели Инсаров и Елена, тихонько минула Riva dei Schiavoni[135 - Набережную Чиавони (итал.).], Дворец дожей[136 - Дож – выборный пожизненный глава торговой республики Венеции.], Пиадзетту и вошла в Большой канал. С обеих сторон потянулись мраморные дворцы; они, казалось, тихо плыли мимо, едва давая взору обнять и понять все свои красоты. Елена чувствовала себя глубоко счастливою: в лазури ее неба стояло одно темное облачко – и оно удалялось: Инсарову было гораздо лучше в тот день. Они доплыли до крутой арки Риальто и вернулись назад. Елена боялась холода церквей для Инсарова; но она вспомнила об академии delle Belle arti[137 - Изящных искусств (итал.).] и велела гондольеру ехать туда. Они скоро обошли все залы этого небольшого музея. Не будучи ни знатоками, ни дилетантами, они не останавливались перед каждой картиной, не насиловали себя: какая-то светлая веселость неожиданно нашла на них. Им вдруг все показалось очень забавно. (Детям хорошо известно это чувство.) К великому скандалу трех посетителей англичан, Елена хохотала до слез над святым Марком Тинторетта[138 - Тинторе?тто (1518–1594) – итальянский живописец. Его картина, о которой идет речь, «Чудо святого Марка».], прыгающим с неба, как лягушка в воду, для спасения истязаемого раба; с своей стороны, Инсаров пришел в восторг от спины и икр того энергического мужа в зеленой хламиде, который стоит на первом плане тициановского Вознесения[139 - Тициановского Вознесения – картина «Вознесение» итальянского художника Тициана (1477–1576).] и воздымает руки вослед Мадонны; зато сама Мадонна – прекрасная, сильная женщина, спокойно и величественно стремящаяся в лоно Бога-Отца, – поразила и Инсарова и Елену; понравилась им также строгая и святая картина старика Чима да Конельяно[140 - Чима да Конельяно – прозвище Джованни Баттиста (1459–1517/18) – итальянский живописец.]. Выходя из академии, они еще раз оглянулись на шедших за ними англичан с длинными, заячьими зубами и висячими бакенбардами – и засмеялись; увидали своего гондольера с куцею курткой и короткими панталонами – и засмеялись; увидали торговку с узелком седых волос на самой вершине головы – и засмеялись пуще прежнего; посмотрели, наконец, друг другу в лицо – и залились смехом, а как только сели в гондолу – крепко, крепко пожали друг другу руку. Они приехали в гостиницу, побежали в свою комнату и велели подать себе обедать. Веселость не покидала их и за столом. Они потчевали друг друга, пили за здоровье московских приятелей, рукоплескали камериеру за вкусное блюдо рыбы и все требовали от него живых frutti di mare[141 - Морских плодов, то есть съедобных ракушек (итал.).]; камериере пожимался и шаркал ногами, а выходя от них, покачивал головой и раз даже со вздохом шепнул: poveretti! (бедняжки!) После обеда они отправились в театр.
В театре давали оперу Верди, довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую облететь все европейские сцены, оперу, хорошо известную нам, русским, – Травиату. Сезон в Венеции минул, и все певцы не возвышались над уровнем посредственности; каждый кричал, во сколько хватало сил. Роль Виолетты исполняла артистка, не имевшая репутации и, судя по холодности к ней публики, мало любимая, но не лишенная дарования. Это была молодая, не очень красивая, черноглазая девушка с не совсем ровным и уже разбитым голосом. Одета она была до наивности пестро и плохо: красная сетка покрывала ее волосы, платье из полинялого голубого атласа давило ей грудь, толстые шведские перчатки восходили до острых локтей; да и где ж было ей, дочери какого-нибудь бергамского пастуха, знать, как одеваются парижские камелии! И держаться на сцене она не умела; но в ее игре было много правды и бесхитростной простоты, и пела она с той особенной страстностью выражения и ритма, которая дается одним италиянцам. Елена и Инсаров сидели вдвоем в темной ложе, возле самой сцены; игривое расположение духа, которое нашло на них в академии delle Belle arti, все еще не проходило. Когда отец несчастного юноши, попавшего в сети соблазнительницы, появился на сцене в гороховом фраке и взъерошенном белом парике, раскрыл криво рот и, сам заранее смущаясь, выпустил унылое басовое тремоло, они чуть оба не прыснули… Но игра Виолетты подействовала на них.
– Этой бедной девушке почти не хлопают, – сказала Елена, – а я в тысячу раз предпочитаю ее какой-нибудь самоуверенной второстепенной знаменитости, которая бы ломалась и кривлялась и все била бы на эффект. Этой как будто самой не до шутки; посмотри, она не замечает публики.
Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту.
– Да, – промолвил он, – она не шутит: смертью пахнет.
Елена умолкла.
Начался третий акт. Занавес поднялся… Елена дрогнула при виде этой постели, этих завешенных гардин, склянок с лекарством, заслоненной лампы… Вспомнилось ей близкое прошедшее… «А будущее? а настоящее?» – мелькнуло у ней в голове. Как нарочно, в ответ на притворный кашель актрисы раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсарова… Елена украдкой взглянула на него и тотчас же придала своим чертам выражение безмятежное и спокойное; Инсаров ее понял и сам начал улыбаться и чуть-чуть подтягивать пению.
Но он скоро притих. Игра Виолетты становилась все лучше, все свободнее. Она отбросила все постороннее, все ненужное и нашла себя: редкое, высочайшее счастие для художника! Она вдруг переступила ту черту, которую определить невозможно, но за которой живет красота. Публика встрепенулась, удивилась. Некрасивая девушка с разбитым голосом начинала забирать ее в руки, овладевать ею. Но уже и голос певицы не звучал как разбитый: он согрелся и окреп. Явился «Альфредо»; радостный крик Виолетты чуть не поднял той бури, имя которой fanatismo[142 - Фанатизм (итал.).] и перед которой ничто все наши северные завывания… Мгновение – и публика опять замерла. Начался дуэт, лучший нумер оперы, в котором удалось композитору выразить все сожаления безумно растраченной молодости, последнюю борьбу отчаянной и бессильной любви. Увлеченная, подхваченная дуновением общего сочувствия, с слезами художнической радости и действительного страдания на глазах, певица отдалась поднимавшей ее волне, лицо ее преобразилось, и перед грозным призраком внезапно приблизившейся смерти с таким, до неба достигающим, порывом моленья исторглись у ней слова: «Lascia mi vivere… morir si giovane!» (дай мне жить… умереть такой молодой!), что весь театр затрещал от бешеных рукоплесканий и восторженных кликов.
Елена вся похолодела. Она начала тихо искать своею рукою руку Инсарова, нашла ее и стиснула ее крепко. Он ответил на ее пожатие; но ни она не посмотрела на него, ни он на нее. Это пожатие не походило на то, которым они, несколько часов тому назад, приветствовали друг друга в гондоле.
Они поплыли в свою гостиницу опять по Canal Grande. Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов; они отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой мглою ровной тени. Гондолы с своими маленькими красными огонечками, казалось, еще неслышнее и быстрее бежали; таинственно блистали их стальные гребни, таинственно вздымались и опускались весла над серебряными рыбками возмущенной струи; там, сям коротко и негромко восклицали гондольеры (они теперь никогда не поют); других звуков почти не было слышно. Гостиница, где жили Инсаров и Елена, находилась на Riva dei Schiavoni; не доезжая до нее, они вышли из гондолы и прошлись несколько раз вокруг площади святого Марка, под арками, где перед крошечными кофейными толпилось множество праздного народа. Ходить вдвоем с любимым существом в чужом городе, среди чужих, как-то особенно приятно: все кажется прекрасным и значительным, всем желаешь добра, мира и того же счастия, которым исполнен сам. Но Елена уже не могла беспечно предаваться чувству своего счастия: сердце ее, потрясенное недавними впечатлениями, не могло успокоиться; а Инсаров, проходя мимо Дворца дожей, указал молча на жерла австрийских пушек, выглядывавших из-под нижних сводов, и надвинул шляпу на брови. Притом он чувствовал себя усталым – и, взглянув в последний раз на церковь св. Марка, на ее куполы, где под лучами луны на голубоватом свинце зажигались пятна фосфорического света, они медленно вернулись домой.
Комнатка их выходила окнами на широкую лагуну, расстилающуюся от Riva dei Schiavoni до Джиудекки. Почти напротив их гостиницы возвышалась остроконечная башня св. Георгия; направо, высоко в воздухе, сверкал золотой шар Доганы – и, разубранная как невеста, стояла красивейшая из церквей, Redentore Палладия[143 - Палладио Андреа (1508–1580) – итальянский архитектор.]; налево чернели мачты и реи кораблей, трубы пароходов; кое-где висел, как большое крыло, наполовину подобранный парус, и вымпела едва шевелились. Инсаров присел перед окном, но Елена не дала ему долго любоваться видом; у него вдруг показался жар, его охватила какая-то пожирающая слабость. Она уложила его в постель и, дождавшись пока он заснул, тихонько вернулась к окну. О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами! «О Боже! – думала Елена, – зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни… одни… а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах, – все, все нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? («Morir si giovane», – зазвучало у нее в душе…) Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти… О Боже! неужели нельзя верить чуду? – Она положила голову на сжатые руки. – Довольно? – шепнула она. – Неужели уже довольно! Я была счастлива не одни только минуты, не часы, не целые дни – нет, целые недели сряду. А с какого права?» Ей стало страшно своего счастия. «А если этого нельзя? – подумала она. – Если это не дается даром? Ведь это было небо… а мы люди, бедные, грешные люди… Morir si giovane… O темный призрак, удались! Не для меня одной нужна его жизнь!»
«Но если это – наказание, – подумала она опять, – если мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину? Моя совесть молчала, она теперь молчит, но разве это доказательство невинности? О Боже, неужели мы так преступны! Неужели ты, создавший эту ночь, это небо, захочешь наказать нас за то, что мы любили? А если так, если он виноват, если я виновата, – прибавила она с невольным порывом, – так дай ему, о Боже, дай нам обоим умереть по крайней мере честной, славной смертью – там, на родных его полях, а не здесь, не в этой глухой комнате».
«А горе бедной, одинокой матери?» – спросила она себя и сама смутилась и не нашла возражений на свой вопрос. Елена не знала, что счастие каждого человека основано на несчастии другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя – пьедестала, невыгоды и неудобства других.
«Рендич!» – пролепетал сквозь сон Инсаров.
Елена подошла к нему на цыпочках, нагнулась над ним и отерла пот с его лица. Он пометался немного на подушке и затих.
Она опять подошла к окну, и опять взяли ее думы. Она начала самое себя уговаривать и уверять себя, что нет причин бояться. Она даже устыдилась своей слабости. «Разве есть опасность? разве ему не лучше? – шепнула она. – Ведь если бы мы не были сегодня в театре, мне бы все это в голову не пришло». В это мгновение она увидела высоко над водой белую чайку; ее, вероятно, вспугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом, как бы высматривая место, где бы опуститься. «Вот если она полетит сюда, – подумала Елена, – это будет хороший знак…» Чайка закружилась на месте, сложила крылья – и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль. Елена вздрогнула, а потом ей стало совестно, что она вздрогнула, и она, не раздеваясь, прилегла на постель возле Инсарова, который дышал тяжело и часто.
XXXIV
Инсаров проснулся поздно, с глухою болью в голове, с чувством, как он выразился, безобразной слабости во всем теле. Однако он встал.
– Рендич не приходил? – было его первым вопросом.
– Нет еще, – отвечала Елена и подала ему последний нумер «Osservatore Triestino»[144 - «Триестинский наблюдатель» – итальянская газета.], в котором много говорилось о войне, о славянских землях, о княжествах. Инсаров начал читать; она занялась приготовлением для него кофе… Кто-то постучался в дверь.
«Рендич», – подумали оба, но стучавший проговорил по-русски: «Можно войти?» Елена и Инсаров переглянулись с изумлением, и, не дождавшись их ответа, вошел в комнату щегольски одетый человек, с маленьким, остреньким лицом и бойкими глазками. Он весь сиял, как будто только что выиграл огромные деньги или услышал приятнейшую новость.
Инсаров приподнялся со стула.
– Вы не узнаете меня, – заговорил незнакомец, развязно подходя к нему и любезно кланяясь Елене, – Лупояров, помните, мы в Москве встретились у Е… х?
– Да, у Е… х, – произнес Инсаров.
– Как же, как же! Прошу вас представить меня вашей супруге. Сударыня, я всегда глубоко уважал Дмитрия Васильевича… (он поправился): Никанора Васильевича и очень счастлив, что имею, наконец, честь с вами познакомиться. Вообразите, – продолжал он, обратившись к Инсарову, – я только вчера вечером узнал, что вы здесь. Я тоже стою в этой гостинице. Что это за город, эта Венеция – поэзия, да и только! Одно ужасно: проклятые австрияки на каждом шагу! уж эти мне австрияки! Кстати, слышали вы, на Дунае произошло решительное сражение: триста турецких офицеров убито, Силистрия взята, Сербия уже объявила себя независимою. Не правда ли, вы, как патриот, должны быть в восторге? Во мне самом славянская кровь так и кипит! Однако я советую вам быть осторожнее; я уверен, что за вами наблюдают. Шпионство здесь ужасное! Вчера подходит ко мне какой-то подозрительный человек и спрашивает: «Русский ли я?» Я ему сказал, что я датчанин… А только вы, должно быть, нездоровы, любезнейший Никанор Васильевич. Вам надобно полечиться; сударыня, вы должны полечить вашего мужа. Я вчера, как сумасшедший, бегал по дворцам и по церквам – ведь вы были во Дворце дожей? Что за богатство везде! Особенно эта большая зала и место Марино Фалиеро[145 - Марино Фалиеро (1278–1355) – венецианский дож, казненный в 1356 году за организацию республиканского заговора. Во Дворце дожей среди портретов других дожей место Фалиеро оставлено пустым и снабжено надписью: «Здесь место Фалиеро, обезглавленного за преступление».], так и стоит: «Decapitati pro criminibus»[146 - «Обезглавленного за преступления» (лат.).]. Я был и в знаменитых тюрьмах: вот где душа моя возмутилась – я, вы, может быть, помните – всегда любил заниматься социальными вопросами и восставал против аристократии – вот бы я куда привел защитников аристократии: в эти тюрьмы; справедливо сказал Байрон: «I stood in Venice on the bridge of sighs»[147 - «Я стоял в Венеции на Мосту вздохов» (англ.) – из поэмы «Странствия Чайльд-Гарольда» Байрона.]; впрочем, и он был аристократ. Я всегда был за прогресс. Молодое поколение все за прогресс. А каковы англо-французы? Посмотрим, много ли они сделают: Бустрапа?[148 - Бустрапа? – презрительное прозвище Наполеона III.] и Пальмерстон[149 - Пальмерстон Генри (1784–1865) – английский государственный деятель.]. Вы знаете, Пальмерстон сделался первым министром. Нет, что ни говорите, русский кулак не шутка. Ужасный плут этот Бустрапа! Хотите, я вам дам «Les Ch?timents» de Victor Hugo[150 - «Возмездие» В. Гюго (франц.). – Гюго Виктор (1802–1885) – французский писатель.] – удивительно! «L’avenir – le gendarme de Dieu»[151 - «Будущее – исполнитель провидения» (франц.) – последняя строка стихотворения В. Гюго «Открыто на ночь».] – смело немножко сказано, но сила, сила. Хорошо также сказал князь Вяземский: «Европа твердит: Баш-Кадык-Лар, глаз не сводя с Синопа»[152 - Из стихотворения русского поэта П. А. Вяземского (1792–1878) «К оружию».]. Я люблю поэзию. У меня также есть последняя книжка Прудона[153 - Прудон Пьер-Жозеф (1809–1865) – французский утопический социалист, один из основателей анархизма.], у меня все есть. Не знаю, как вы, а я рад войне; только как бы домой не потребовали, а я собираюсь отсюда во Флоренцию, в Рим: во Францию нельзя, так я думаю в Испанию – женщины там, говорят, удивительные, только бедность и насекомых много. Махнул бы в Калифорнию, нам, русским, все нипочем, да я одному редактору дал слово изучить в подробности вопрос о торговле в Средиземном море. Вы скажете, предмет неинтересный, специальный, но нам нужны, нужны специалисты, довольно мы философствовали, теперь нужна практика, практика… А вы очень нездоровы, Никанор Васильевич, я вас, может быть, утомляю, но все равно, я еще посижу немножко…
И долго еще трещал таким образом Лупояров и, уходя, обещался побывать.
Измученный нежданным посещением, Инсаров лег на диван.
– Вот, – с горечью промолвил он, взглянув на Елену, – вот ваше молодое поколение! Иной важничает и рисуется, а в душе такой же свистун, как этот господин.
Елена не возражала своему мужу: в это мгновение ее гораздо больше беспокоила слабость Инсарова, чем состояние всего молодого поколения России… Она села возле него, взяла работу. Он закрыл глаза и лежал неподвижно, весь бледный и худой. Елена взглянула на его резко обрисовавшийся профиль, на его вытянутые руки, и внезапный страх защемил ей сердце.
– Дмитрий… – начала она.
Он встрепенулся.
– Что? Рендич приехал?
– Нет еще… но как ты думаешь – у тебя жар, ты, право, не совсем здоров, не послать ли за доктором?
– Тебя этот болтун напугал. Не нужно. Я отдохну немного, и все пройдет. Мы после обеда опять поедем… куда-нибудь.
Прошло два часа… Инсаров все лежал на диване, но заснуть не мог, хотя не открывал глаз. Елена не отходила от него; она уронила работу на колени и не шевелилась.
– Отчего ты не спишь? – спросила она его наконец.
– А вот погоди. – Он взял ее руку и положил ее себе под голову. – Вот так… хорошо. Разбуди меня сейчас, как только Рендич приедет. Если он скажет, что корабль готов, мы тотчас отправимся… Надобно все уложить.
– Уложить недолго, – отвечала Елена.
– Что этот человек болтал о сражении, о Сербии, – проговорил, спустя немного, Инсаров. – Должно быть, все выдумал. Но надо, надо ехать. Терять времени нельзя… Будь готова.
Он заснул, и все затихло в комнате.
Елена прислонилась головою к спинке кресла и долго глядела в окно. Погода испортилась; ветер поднялся. Большие белые тучи быстро неслись по небу, тонкая мачта качалась в отдалении, длинный вымпел с красным крестом беспрестанно взвивался, падал и взвивался снова. Маятник старинных часов стучал тяжко, с каким-то печальным шипением. Елена закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь; понемногу и она заснула.
Странный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно: ей бы хотелось узнать, что это за люди и зачем она с ними? Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают – уж это не пруд, а беспокойное море: огромные, лазоревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное поднимается со дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками… Елена узнает их лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь налетает на волны… все закружилось, смешалось…
Елена осматривается: по-прежнему все бело вокруг; но это снег, снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке; она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. «Разве она не умерла?» – думает она.
– Катя, куда это мы с тобой едем?
Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами… Катя, Катя, это Москва? Нет, думает Елена, это Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий, как в улье; там душно, тесно, – там Дмитрий заперт. Я должна его освободить… Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. Елена, Елена! слышится голос из бездны.
«Елена!» – раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый, как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас, смешанный с каким-то тоскливым умилением, выражался на его внезапно изменившемся лице.
– Елена! – произнес он, – я умираю.
Она с криком упала на колени и прижалась к его груди.
– Все кончено, – повторил Инсаров, – я умираю… Прощай, моя бедная! Прощай, моя родина!..