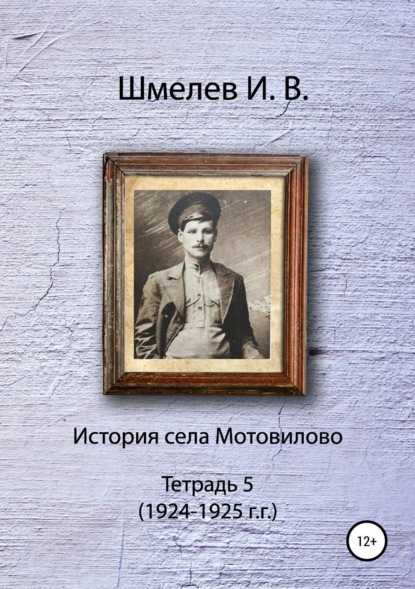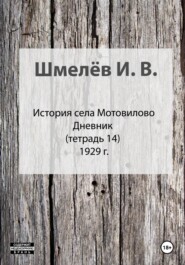По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История села Мотовилово. Тетрадь 5
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да я особенно-то и не хвалюсь! – отзывался Ванька.
– А ты, отец, не подтравляй и их не разъерехонивай! – строго прикрикнула Дарья, – и вообще, скорее обедайте и живей выкатывайтесь из избы-то!
– А что? – удивленно опешил Иван.
– Так ничего! Марья что-то занемогла, – намекающее уведомила семью.
– А где она?
– Я ее в баню отвела.
Поняв, в чем дело, Иван затормошился, заволновался. Он поспешно вылез из-за стола, бесцельно хлопотливо затолмошился по избе.
– Ах, ты, батюшки, надо бы сватьёв известить! Я, пожалуй, к ним сбегаю, – разохотился Иван, не находя себе места, топтался по полу.
– Ладно тебе ввязываться-то в наше бабье дело-то, – укротила его Дарья.
Не поев как следует, мужики вышли из-за стола. Вылезая, перекрестились на образа. Отец с Михаилом зашагали на стройку, а Ванька задержался у дома. Он в раздумье о жене притупленным взором смотрел на развешенное под окнами ею белье, среди прочих вещей он глазами отыскал висевшую Марьину нательную рубашку, рядом с ней он увидел трепыхающиеся на ветру свои подштанники. Надуваясь ветром, они рогатились и снова, отвиснув, опадали. Ванька тихо побрел на стройку.
Тем временем, Санька Федотов с Ванькой Савельевым, подбирая яблоки, опавшие с яблонь, попытались было заглянуть в баню, их одолевало детское любопытство, но Дарья их шелыгнула, наделяя угрозами и руганью.
– Ах, вы, баловники, эт вы куда забрались! Все яблоки обили, по целым за пазухам набили, весь сад ополовинили. Самовольники, я вот вам сейчас задам, крапивой жопы напорю! Вы у меня будете знать, как по огородам лазить! Ах, вы, дуй вас гора! Мошенники, дьяволята! – крича во все задворки, не унималась Дарья. – Держи их, держи! – ни к кому не обращаясь, стараясь подальше отогнать их, орала она. А Санька с Ванькой пыхнули, только их и видели.
Роды, по деревенскому обычаю, происходили в бане. Бабкой-повитухой была сама свекровь, Дарья. Приняв голосисто кричавшего мальчика, она все устроила, что полагается и требуется в таком случае. После всех родовых процедур Дарья намыла роженицу и уложила ее на полок отдыхать, подложив ей под голову подушку.
Ребенок рос и развивался. Он усилил тесноту в доме, ускорил подготовку к разделу семьи, заставил ускоренными темпами отделывание дома для Михаила. На достройку ринулась вся семья: отец, Михаил, Ванька, Панька, Сергунька и даже малолеток Санька помогал по своей силе и возможности – прямил гвозди, подавал плотникам нужную доску.
– Санька! А ну-ка, подай сюда мне вон этот обрезок доски, – попросил его отец сверху. Санька со всем детским услужливым рвением бросился, отыскал ту дощечку и угодливо подал ее отцу. Подмывало Саньку какое-то радостное веселье, хотелось ему, чтоб поскорее отделился Михаил, и он, Санька, будет побегивать к брату на ночлег – для охоты.
То и дело слышался распорядительный голос отца. То он давал деловые указания сыновьям, как лучше приладить ту или иную слегу, жердь к стропилам, доску с фронтону. То раздраженно покрикивал, чтоб они оплошно не зазевывались и нечаянно не зашибли друг друга.
– Ты, Сергунька, только вертишься, как бельмо на глазу. Не столько помогаешь, сколько мешаешься под ногами. Тово гляди с тобой беды наживёшь! – обрушился отец на вяловатого в движениях, хилого, долговязого Сергуньку. Тот смущенно и виновато глядел в глаза отца, стараясь понять, за что же так незаслуженно упрекает его отец, ведь он, как и все, всем своим старанием желает, чтоб дом для Михаила отделать поскорее.
К вечеру этого дня отец, лазая по стропилам, так намучился и устал, что еле добрел до дому. Он, не разувшись, брякнулся на кутник, стал жаловаться Дарье:
– Эх, я нынче и устал, едва доработался до вечера. Мало ноги наломал, лазая по обрешётке стропил, да еще вдобавок всю грудь заложило, дыхнуть больно, и руки болят, пальцы все в заусенцах! Это бы еще ничего, да вдобавок к самому вечеру голова разболелась! – насчитывал свои боли он.
– А ты выдь на улицу, и всю боль из головы ветром выдует! – деловито порекомендовала ему Дарья.
– Эх, у меня нынче тоже голова разболелась, – сунулся с языком Санька.
– А тебе делать нечего, залезь на печь, голова не задница, завяжи и лежи! – усмешливо заметила ему мать.
Отец разразился таким задорным смехом, что не в силах воздержаться, смеялась вся семья.
После жнитвы, под самую осень, настал день раздела многолюдной федотовой семьи и делёжки имущества, находящегося в хозяйстве. На дележ собралась в избе вся семья, как на некий праздник. Сам хозяин Иван, усевшись на председательском месте, на лавке под образами, пустив растроганную слезу, начал так:
– Ну, Мишка, отделяйся, опосля не кайся! – едва сдерживая себя, чтоб не разрыдаться, гаркнул он. – Коль назвался груздем – полезай в кузов! – многозначительно, загадочно и с намёками продолжал он. – Впрягайся в хозяйство, ты теперь сам домохозяином будешь! Хватит, пожил за отцовой-то спиной. Я вот погляжу, что от вас тронется. Или спать без просыпу будете, или с бабами валандаться по целому уповоду будете! Ешлитвою мать-то! – с самодовольным хихиканьем в смехе трясся он. – Ну, ладно, ничего, это так, к слову, чай, все люди грешные. И мы молодые-то были, а если бы этого не было, и нас бы не было. Бывало, было и так, при разделе иной семьи имущества, кроме общей избы, ничего не оказывалось, и вместо надела отец отделявшемуся сыну давал жену, сковородник вместо подожка в руки, и провожал из дома. Сын уходил и говорил: «Спасибо, тятя, на наделе!» А я, Мишк, тебе даю: дом, хлеба! Наделяю тебя как полагается по едокам, картошку разделим по всем правилам, когда выроем ее, кое–что из посуды и инвентаря, квашню, чашки, ложки. Вот, пожалуй, и все. Живите, добра наживайте! – напутствовал отец Михаила. Его деловую и назидательную речь слушала вся семья внимательно, не перебивая, потому что эта речь отца касалась не только Михаила, но и остальных сыновей.
Ванька, не выдержав, сдержанно и боязливо, чтоб не разгневить, выговорил отцу:
– А ты зачем, тятьк, Мишке сверх всего этого самовар-то посулил?
– А ты перве узнай, а там уж и бай! – ощетинившись, обрушился на него отец. – Ты отколь знаешь, что я посулил? Вроде я не знаю, что нам с семьёй без самовара-то оставаться, как без коровы. Вот выдумщик какой нашёлся! – наседая на Ваньку, ругая его, ерепенился отец. – Пусть сами наживают. Поживут с годик, можа, и самовар приобретут, – остывая, закончил свою речь отец.
Мать Дарья от себя тоже давала наказ отделявшемуся сыну Михаилу и снохе, да и вообще всем, которым предстоит отделиться в будущем.
– Вам, бабам, особый мой наказ и поученье: чтобы в доме хлеб не переводился, пустую квашню в сени не выносите, пока хлебы в печи сидят. Это первая моя заповедь. А вторая: нас не забывайте, почаще наведывайтесь к нам, и мы вас будем навещать, с шабрами в миру живите, потому что соседи-шабры ближе всякой родни, с людьми будьте вежливыми, старших уважайте, к знатным людям села относитесь с почтеньем и покорностью.
После раздела крупного инвентаря начали делёжку мелочи: ведер, коромыслов, ухватов, кочерег, серпов, из-за чего расспорились и чуть не подрались.
Наступил день проводов Михаила с семьёй и наделом в новый дом, на новое местожительство. Вся семья собралась в избе в торжественных позах все расселись по лавкам. Сам хозяин, отец, занял место перед столом на табурете. Поговорили, побеседовали, еще раз словами понапутствовали Михаилу с Анной.
– Ну, вставайте, – скомандовал отец. – Помолимся, да и с Богом!
Все торжественно и деловито помолились.
– Ну, пошли! – приказал отец, едва сдерживая просившиеся из глаз слезы.
Провожая сына из избы (старый скворец молодого птенца из скворешницы), впереди пошёл сам Иван, за ним с большим караваем и с солоницей в руках двинулся Михаил, за ним с ребенком на руках следовала Анна, за ней шествовала Дарья. Остальная семья шла сзади. При выходе из дома все остановились у окна.
– Ну, ступайте! – захлёбываясь от горечи в горле, едва проговорил отец и рухнул на завалину, затрясся в рыдании. Михаил, не смея смахнуть с глаз слезы (да и руки были заняты), не оборачиваясь, пошёл от избы, в которой он родился, возрастал и возмужал. Его жена Анна, едва сдерживая рыданья, со слезами на глазах с благодарностью выкрикнув «Батюшке и матушке спасибо на наделе!», степенно и покорно зашагала за Михаилом.
– Ты помолись на Покров пресвятой Богородице, да и с Богом! Дай Бог, в добрый час! – напутственно крикнула вслед Анне Дарья.
Детство. В городе и на Прорыве
Наступил день сбора Савельевых для поездки в Арзамас. Отец, подмазывая телегу, крикнул Ваньке:
– Собирайся! Сейчас поедем в город. Помнишь, я тебе пообещал город показать.
Ванька, прыгая от радости, нашёл свой пиджак, разостлал его на свеженакошенной вике на телеге. Забравшись туда, расположился на подстилке с чувством нескрываемой радости. Отец запряг Серого. Отворив ворота и усевшись справа на телеге, крикнул на лошадь: «Но!». Серый дружным рывком стронул телегу с места и бодро зашагал со двора, направляясь на уличную дорогу. День был праздничный – воскресенье. На улице разгуливался нарядный народ.
– Это куда ты, Василий Ефимович, так снарядился? – спросил Савельева Василий Григорьевич Лабин, когда телега поравнялась с его домой.
– Да вот, парню город надо показать, он еще не видывал его. Да, кстати, и купить кое–чего, ведь завтра базар.
– Ты, пожалыста, зайди там в одно место, я тебя попрошу.
– Пожалуй! – охотно отозвался Савельев.
О чем просил Лабин отца, Ванька не понял, да ему и не интересно было вникать в подробности взрослых.
На улице Моторе Василий Ефимович подвернул лошадь к дому тестя Молодцова и вошёл в избу. Ванька остался на телеге. Вскоре из дома вышли отец, бабушка Василиса и дядя Федя. Бабушка с уговорами подступила к Ваньке, шутливо отговаривала, чтоб он не ездил в город.
– Не езди, соколик, кто первый раз едет в город, тому по традиции придётся целовать сопливую мордовку. И тебе этого не миновать. Не езди! – дружелюбно улыбаясь, наговаривала она Ваньке. А он, вцепившись в грядку телеги, и не думал отстать от своей заветной мечты побывать в городе. Он твёрдо решил не слезать с телеги.
– Ты, матушка, уж совсем его застращала, – вступился за Ваньку отец, – видишь, у него со страха слезы на глазах появились.