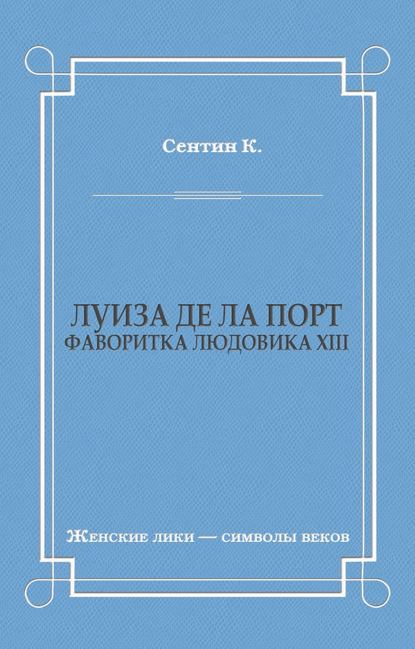По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Луиза де ла Порт (Фаворитка Людовика XIII)
Автор
Год написания книги
1846
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вам так говорили, – отвечала спокойно ла Файетт. – Может быть, тот, кто так старался уверить вас в этом, имел намерение принудить вас к тому, чтобы вы прибегли к его защите.
– Вы враг его! – возразил король с гневом и нетерпением.
– Да, государь, враг, ибо он и ваш враг – вашего благополучия. Отдаю должное его высоким качествам… и признаю их, как и те великие услуги, которые он оказал государству и религии. Но порицаю его за то, что он насилием достиг этих благородных результатов.
– Упреки делать легко… Но может ли падение министра помешать честолюбивым замыслам моего брата? Гастон жаждет быть на престоле!
– Нет, ваше величество. Герцог Гастон долго видел печаль, которой вы одержимы. Старайтесь опять подняться на ту высоту – того значения, – с которой вас свели. Оставьте при себе вашего министра, если он нужен для вашей собственной славы, но наблюдайте, присматривайте за ним! – воскликнула монахиня. – Вызовите вашу мать из ссылки, и пусть ваше семейство соберется около вас; тогда и двор ваш не замедлит присоединиться к нему. Ваши семейные ссоры и несогласия придают более смелости знатным вельможам, которые дышат возмущением, – ведь в такой ситуации они надеются найти себе покровительство и помощь в самом вашем семействе. Уничтожьте зло в самом его начале, и тишина водворится в государстве!
– Говорю вам, мой брат хочет царствовать, – повторил Людовик, погруженный как все в те же мысли.
– Так что ж, – возразила прежняя фаворитка, бросив на короля смелый взгляд, – есть средство поставить непреодолимое препятствие его честолюбию, – средство это поможет пресечь его преступные замыслы.
– Какое же?
– Равнодушие ваше к королеве всегда ее печалило. Вы любили ее, ваше величество, и вы снова полюбите, если станете опять видеть ее добродетели и все прекрасные черты.
Король, казалось, слушал ее без внимания. Ла Файетт не решалась продолжать, и оба некоторое время молчали: она – ожидая его ответа, он – пояснения. Луиза, заметившая затруднение подруги, подошла к ней; но ла Файетт подала ей рукой знак удалиться, давая понять, что присутствие ее может отвлечь внимание короля. Хотела было продолжать, но слова замирали на ее губах и речь прерывалась:
– И еще, государь… королева любит вас… она так молода еще…
– Ей столько же лет, сколько мне… тридцать шесть.
– Ваш союз был бы счастьем для Франции.
– Но мы говорим о нашем брате… Что ему до этого? – возразил король.
– Ах, стало быть, вы не хотите меня понять… Завладейте вашим престолом – как для будущего, так и для настоящего! Ваша наилучшая опора и защита против заговоров – будущий сын ваш!
Ла Файетт ясно доказала ему, сколько силы, значения и вместе с тем спокойствия доставит ему наследник престола. С таким убеждением восхваляла королеву, ее добродетель, кротость, даже красоту, что приведенный в замешательство Людовик XIII, соглашаясь с ее уверениями, почти забыл о своей ненависти к Анне Австрийской и обещал приступить к примирению с ней.
– Думаю, лучше сначала посоветоваться об этом с кардиналом, – в конце концов отозвался он.
Ла Файетт, обиженная этими словами, выражавшими подчиненность старшего младшему, вдруг вспыхнула и, забывшись, сказала с некоторой запальчивостью, не думая, что это может привести ее к гибели:
– Опять с кардиналом! Государь, уж не собрать ли вам также государственный совет, чтобы осмелиться быть мужем вашей супруги?
Король по своему обыкновению понижал голос, по мере того как монахиня его возвышала. Луиза присоединилась к подруге, как бы желая этим ускорить примирение супругов, и, скрестив руки, со слезами на глазах – не понимала, конечно, что тут есть причина, о которой девушкам знать не следует, – обратила к королю жалостный, умоляющий взор.
Не странно ли, что две молодые женщины, со всей чистотой и целомудрием помыслов, давали подобные наставления любострастному сыну Генриха IV. Луизой руководило лишь непритворное чувство подражания. Что касается ее подруги, тут проявлялось полное отречение от самой себя: в то время, когда любила короля, отношения с королевой, которой служила фрейлиной, почти всегда тяготили ее. Возможно, в сердце пробуждалось невольное чувство ревности, соперничества; или хотела, чтобы не она, а другая стала соперницей юной пансионерки в любви Людовика XIII; а может быть, желала только ее спасти… Как бы то ни было, король согласился с высказанным ему мнением.
Собираясь ехать, он заметил, что дождь не перестал, а пошел сильнее прежнего. Весь монастырский двор покрылся лужами, и вода доходила почти до монастырских сеней. Ла Файетт не советовала королю возвращаться в такую погоду, притом ночью, в Версаль.
– Так куда же мне ехать? – задал он вопрос, выходя из монастыря и садясь в карету.
– В Лу-увр! – прокричала она.
И как всем известно, королевский поезд двинулся по направлению к Лувру.
Глава III. Празднества по случаю рождения сына у короля
Праздновалось рождение дофина (ставшего впоследствии королем Франции под именем Людовика XIV), которое последовало в воскресенье 5 сентября 1638 года, и весь Париж превратился, казалось, в радость, восторг и упоение.
Везде толпился народ: на улицах и мостах; в Лувре и Тюильри; в Доме и перед Домом иезуитов, которые в знак счастливого события публично представляли трагедии; перед монастырем Бернардинского ордена на улице Нёв-Сент-Оноре – сюда после объявления о раздаче всеобщей милостыни стекались со всех сторон города бедняки; множество любопытных на гуляньях, набожных в церквах; а сколько окон, украшенных щитами и гирляндами; кораблей, судов и лодок на реке, увешанных флагами… Повсюду движение: чернь и солдаты, женщины и мужчины, старики и дети – люди всех званий и состояний.
Крики, песни, поклоны, приветствия без конца… Кто проходил в то время по Парижу, видел зрелище самое пестрое, разнообразное и чрезвычайно любопытное: лица молодые и свежие, старые и безжизненные, белые и румяные, смуглые, желтые и бледные; а глаза, волосы, прически, шляпы, токи; богатые плащи и камзолы и платье совсем бедное…
Не меньше людей и на бульварах, набережных, на Сен-Лорентской ярмарке, продолжавшейся в тот год дольше обыкновенного на площади Эстрапад, где по случаю празднества паяцы, фигляры, арлекины и фокусники забавляли публику своими представлениями. Право, нельзя вообразить, чтобы такое множество народа, что вся эта масса жила в одном городе.
А взору, устремленному вдаль, представлялся вид необыкновенный, в особенности с Нового моста. Отсюда, если смотреть на Сену, разделяющуюся на два рукава около центральной части города, открывалась восхитительная картина на четырех берегах реки, обратившихся в черную полосу. Огромный людской поток беспрестанно прибывал со всех сторон, направляясь к Лувру: таким образом все избегали огибать набережные, почти так же непроходимые из-за толпившихся любопытных. Тихие воды Сены струились мелкими рябинами, отражая светлой, волнистой полосой лучи солнца. По ним плыли сотни лодок и катеров разных размеров, нагруженных богато одетыми пассажирами, которые в знак своего одобрения и торжества ради махали в воздухе разноцветными лентами и лоскутами. На сопровождавших маленьких челноках помещались музыканты. Вся эта флотилия беспрестанно проходила под мостами, устроенными на довольно близком друг от друга расстоянии на двух рукавах реки. Но вот все, что плыло, причаливало к берегу, и тогда пассажиры и лодочники обменивались радостными приветствиями и громкими возгласами – каждому не терпелось поделиться своей радостью. После этого, с музыкой и радостными криками, раздававшимися со всех сторон, отправлялась далее. Так ликовали парижане по случаю неожиданного рождения у короля сына – теперь, кажется, наступит конец междоусобным войнам. За это счастье приносили благодарение Богу, королю, королеве и Святой Женевьеве Нантерской – перед ней так часто и усердно молилась Анна Австрийская, просившая даровать ей сына; благодарили и духовенство, которое, без сомнения, долго молилось о таком событии; но никому, конечно, не пришло в голову воздать должное мадемуазель ла Файетт!
На левом берегу реки, по ту сторону Неверского отеля и городских садов, а также Нельской заставы, от которой были проведены новые улицы на месте, занимаемом прежде посадом Пре-о-Клерк, показывались разные шествия: длинные процессии духовенства из трех приходских церквей; депутации яковитов и капуцинов; разутых кармелитских монахов и английских бенедиктинцев. Все они шли во дворец приветствовать королевского сына: ему всего несколько дней от рождения, и его специально привезли из Сен-Жермена, где он родился, чтобы показать доброму народу. Далее следовали ремесленные цехи со значками и флагами, развевавшимися по ветру. Тут много чего наблюдалось занимательного: каждый из виноторговцев нес в подарок новорожденному принцу кубок граненого хрусталя, украшенный лилиями и наполненный благородным вином, произведением главнейших виноградников Франции; типографщики, в сделанных из бумаги картузах на головах, водрузили на бархатную подушку часовник в богатом переплете, приготовившись прочитать наизусть перед крошечным дофином оду господина Коллете, заседавшего во Французской академии; наконец, королевские скрипачи намеревались играть перед окнами покоев, где помещался новорожденный.
На набережной Малаке виднелась длинная многоцветная полоса, составленная из толпы народа; масса двигалась к деревянному мосту Барбье, вблизи которого находился прежде большой паром для перевоза с одного берега на другой придворных, отправлявшихся в Лувр, или стад, перевозимых на пастьбу в поле Красного Креста.
В то время с Нового моста была проведена улица Бон, которая вела прямо к Тюильри. Сначала, кроме флагов, значков, знамен и церковных хоругвей, развевавшихся по ветру, дувшему на юго-восток, по течению реки, ничего не было видно; потом суматоха и волнение в народе еще более усилились.
Предшествуя экипажам, отправившимся из Лувра, королевские мушкетеры, французская и швейцарская гвардия шли по мосту в то же время, когда духовенство и городские цехи – неимоверное смешение касок, капюшонов, шляп и бумажных картузов; выше толпы, в воздухе, – пики, алебарды, флаги, знамена, кресты и украшенные галунами шапки кучеров, сидящих на высоких, выше всех козлах.
Наконец, пестрая, разноцветная толпа стала суживаться, выравниваться, приходить в порядок, образовывать ряды, и старый Луврский дворец, к которому вся эта масса двигалась, опустил перед ней свои подъемные мосты. И в то время, как она тихо, безмолвно, с почтением вступила процессией в огромный двор Лувра, другая, навстречу ей, вышла из него с шумом, гамом и криками радости – ей уже привелось видеть новорожденного – и направилась обратно к Новому мосту, чтобы приветствовать громким «ура!» бронзовую статую Генриха Великого: украшенный цветами и блестя от солнца, он, казалось, радовался вместе со всеми своему внуку.
Новый мост представлял зрелище, также заслуживавшее пристального внимания. Он был обычно главным центром, где собирались многие и разные люди: торговцы аптекарскими и москательными товарами, мелкие продавцы эликсира и «симпатичного» порошка (он был в то время в большой моде), изобретатели всецелебных лекарств, зубные врачи, все великие медики – самоучки. Сюда сходились и певцы рождественских славословий, песен религиозных и светских, фигляры, плясуны, уличные комедианты, фокусники, а с ними и толпы зевак, готовых любоваться хоть каким зрелищем.
Горе провинциалу, если приехал он в то время из Пуату или Сентонжа и очутился среди этого шумного сборища, где так легко его отличить по боязливой походке, глазам, беспрерывно озирающимся во все стороны, по шляпе с кургузыми полями или подстриженным усам. Скоро становился он предметом всеобщего внимания и насмешек, и наиболее искусные площадные лекаря овладевали им как добычей для своих опытов. Тогда ему, как бы возведенному в звание ученого, приходилось отведывать всевозможные сорта эликсира; на платье его уже не было пятен: их вычистили, растирая особым составом (тоже изобретение) – очистительным камнем, имеющим свойство выводить пятна с материи. Шляпа его выглядела совсем как новая от химической воды, изобретенной в то время и называвшейся «жуванской водой». Ну а имел он во рту сомнительный зуб, так, хорош или худ, его выдергивали под крики удивления толпы. Хорошо еще, когда бедный провинциал терпел только от уличных шарлатанов и выходил из толпы без дальнейших приключений, не ограбленным зрителями. Ведь в то время воровство было ремеслом не одних нищих бродяг, но и дворян с той разницей, что первые воровали из нужды, а вторые – для собственного удовольствия. (А что, не делается ли того же и в наше время – в наш образованный девятнадцатый век?)
К вечеру того же дня многолюдная столица, устав кричать, плясать, веселиться и радоваться, замолкла. Слышался только какой-то однообразный гул, по временам прерываемый громкими криками не угомонившихся еще пажей, учеников и подмастерьев. Темнота ночи, что упала на город, рассеивалась светом догоравшей иллюминации или факелами лакеев, которые сопровождали кареты своих господ, – те, выехав из Лувра, возвращались домой. Наконец, уже поздней ночью в городе наступила глубокая тишина: нигде не слышалось шума экипажей, запоздалые гуляки разбрелись уже по своим жилищам; весь Париж спокойно спал.
На месте, где полвека спустя появилась площадь Победы, возвышался в то время великолепный, окруженный другими дом ла Ферте Сенектеров; красивый подъезд украшен богатым гербом герцогского достоинства – на широкой мантии голубой щит с пятью серебряными ветками.
В одной из комнат этого дома – противоположные улице окна выходили в роскошный двор, а углом на маленькую улицу – две женщины в эту самую ночь, обложившись мягкими подушками в широких креслах с высокими спинками, разговаривали перед затопленным камином.
У старшей лицо уже немолодое, продолговатое; живой взгляд выражал веселость, несколько умеряемую привычкой к набожности. Распустившаяся прическа, широкий, из генуэзского шелка капот с большими цветами, босые ноги в суконных туфлях – все свидетельствовало, что она у себя дома, забыла про поздний час ночи и давно ожидавшую постель.
Другая, молодая, со свежим лицом, красивая, можно даже сказать – красавица, еще одетая по-дневному, наряженная, в косынке в стиле Медичи, с жемчужными украшениями на голове – мадемуазель д’Отфор, фрейлина, наперсница королевы, первая из тех, кто избран сердцем короля. Очень поздно покинула она Лувр, где не нашла себе комнаты дли ночлега (весь дворец наполнен множеством докторов, нянек, мамок и т. п.) и приехала ночевать к своей приятельнице, отчасти родственнице герцогине ла Ферте. Задушевный, дружеский разговор, не давая спать, удерживал их перед камином. Предметом беседы были различные события, происходившие в тот день в Луврском дворце.
– Что же сказал король городским общинам? – продолжала герцогиня.
– Король, – отвечала мадемуазель д’Отфор со свойственными ей откровенностью и шутливостью и приняв по привычке насмешливый тон, – сказал одним, как бы в отплату за их блестящие обещания: «Сделайте это, и я буду для вас добрым королем». Другим: «Пусть так, и надейтесь, что… буду я для вас добрым королем». Этим: «Продолжайте действовать по-прежнему, и… я буду для вас добрым королем». Тем… – свою обычную и вечную формулу: «Держите себя благопристойно, платите исправно оброки и подати, и будет вам хорошо». – При этих словах она громко расхохоталась.
Герцогиня намеревалась последовать примеру подруги, но удержалась и приняла важный вид.
– Вы не скромны, дитя мое. Неужели вы так скоро забыли добрые наставления аббата Сен-Сирена? – И с умилением подняла глаза на небольшой портрет аббата, висевший над камином.
– Я сказала истину, герцогиня, и повторила только, слово в слово, нечто из речей его величества.
– Да… но вы говорите про короля тоном, ясно показывающим вашу злобу на него. Его величество перестал оказывать вам прежнее внимание, и вы негодуете.
– Совсем нет, клянусь вам! – возразила хорошенькая фрейлина, немного обидевшись на такое замечание. – Его благорасположение никогда не было для меня полезным, я не видела в нем особенной выгоды – ни для себя, ни для своих близких и родственников, – а довольствовалась только некоторой продолжительностью его. Правда, что король был в то время близок мне, даже очень близок… и слова его действовали не на один мой слух, но и на сердце.
– Вы враг его! – возразил король с гневом и нетерпением.
– Да, государь, враг, ибо он и ваш враг – вашего благополучия. Отдаю должное его высоким качествам… и признаю их, как и те великие услуги, которые он оказал государству и религии. Но порицаю его за то, что он насилием достиг этих благородных результатов.
– Упреки делать легко… Но может ли падение министра помешать честолюбивым замыслам моего брата? Гастон жаждет быть на престоле!
– Нет, ваше величество. Герцог Гастон долго видел печаль, которой вы одержимы. Старайтесь опять подняться на ту высоту – того значения, – с которой вас свели. Оставьте при себе вашего министра, если он нужен для вашей собственной славы, но наблюдайте, присматривайте за ним! – воскликнула монахиня. – Вызовите вашу мать из ссылки, и пусть ваше семейство соберется около вас; тогда и двор ваш не замедлит присоединиться к нему. Ваши семейные ссоры и несогласия придают более смелости знатным вельможам, которые дышат возмущением, – ведь в такой ситуации они надеются найти себе покровительство и помощь в самом вашем семействе. Уничтожьте зло в самом его начале, и тишина водворится в государстве!
– Говорю вам, мой брат хочет царствовать, – повторил Людовик, погруженный как все в те же мысли.
– Так что ж, – возразила прежняя фаворитка, бросив на короля смелый взгляд, – есть средство поставить непреодолимое препятствие его честолюбию, – средство это поможет пресечь его преступные замыслы.
– Какое же?
– Равнодушие ваше к королеве всегда ее печалило. Вы любили ее, ваше величество, и вы снова полюбите, если станете опять видеть ее добродетели и все прекрасные черты.
Король, казалось, слушал ее без внимания. Ла Файетт не решалась продолжать, и оба некоторое время молчали: она – ожидая его ответа, он – пояснения. Луиза, заметившая затруднение подруги, подошла к ней; но ла Файетт подала ей рукой знак удалиться, давая понять, что присутствие ее может отвлечь внимание короля. Хотела было продолжать, но слова замирали на ее губах и речь прерывалась:
– И еще, государь… королева любит вас… она так молода еще…
– Ей столько же лет, сколько мне… тридцать шесть.
– Ваш союз был бы счастьем для Франции.
– Но мы говорим о нашем брате… Что ему до этого? – возразил король.
– Ах, стало быть, вы не хотите меня понять… Завладейте вашим престолом – как для будущего, так и для настоящего! Ваша наилучшая опора и защита против заговоров – будущий сын ваш!
Ла Файетт ясно доказала ему, сколько силы, значения и вместе с тем спокойствия доставит ему наследник престола. С таким убеждением восхваляла королеву, ее добродетель, кротость, даже красоту, что приведенный в замешательство Людовик XIII, соглашаясь с ее уверениями, почти забыл о своей ненависти к Анне Австрийской и обещал приступить к примирению с ней.
– Думаю, лучше сначала посоветоваться об этом с кардиналом, – в конце концов отозвался он.
Ла Файетт, обиженная этими словами, выражавшими подчиненность старшего младшему, вдруг вспыхнула и, забывшись, сказала с некоторой запальчивостью, не думая, что это может привести ее к гибели:
– Опять с кардиналом! Государь, уж не собрать ли вам также государственный совет, чтобы осмелиться быть мужем вашей супруги?
Король по своему обыкновению понижал голос, по мере того как монахиня его возвышала. Луиза присоединилась к подруге, как бы желая этим ускорить примирение супругов, и, скрестив руки, со слезами на глазах – не понимала, конечно, что тут есть причина, о которой девушкам знать не следует, – обратила к королю жалостный, умоляющий взор.
Не странно ли, что две молодые женщины, со всей чистотой и целомудрием помыслов, давали подобные наставления любострастному сыну Генриха IV. Луизой руководило лишь непритворное чувство подражания. Что касается ее подруги, тут проявлялось полное отречение от самой себя: в то время, когда любила короля, отношения с королевой, которой служила фрейлиной, почти всегда тяготили ее. Возможно, в сердце пробуждалось невольное чувство ревности, соперничества; или хотела, чтобы не она, а другая стала соперницей юной пансионерки в любви Людовика XIII; а может быть, желала только ее спасти… Как бы то ни было, король согласился с высказанным ему мнением.
Собираясь ехать, он заметил, что дождь не перестал, а пошел сильнее прежнего. Весь монастырский двор покрылся лужами, и вода доходила почти до монастырских сеней. Ла Файетт не советовала королю возвращаться в такую погоду, притом ночью, в Версаль.
– Так куда же мне ехать? – задал он вопрос, выходя из монастыря и садясь в карету.
– В Лу-увр! – прокричала она.
И как всем известно, королевский поезд двинулся по направлению к Лувру.
Глава III. Празднества по случаю рождения сына у короля
Праздновалось рождение дофина (ставшего впоследствии королем Франции под именем Людовика XIV), которое последовало в воскресенье 5 сентября 1638 года, и весь Париж превратился, казалось, в радость, восторг и упоение.
Везде толпился народ: на улицах и мостах; в Лувре и Тюильри; в Доме и перед Домом иезуитов, которые в знак счастливого события публично представляли трагедии; перед монастырем Бернардинского ордена на улице Нёв-Сент-Оноре – сюда после объявления о раздаче всеобщей милостыни стекались со всех сторон города бедняки; множество любопытных на гуляньях, набожных в церквах; а сколько окон, украшенных щитами и гирляндами; кораблей, судов и лодок на реке, увешанных флагами… Повсюду движение: чернь и солдаты, женщины и мужчины, старики и дети – люди всех званий и состояний.
Крики, песни, поклоны, приветствия без конца… Кто проходил в то время по Парижу, видел зрелище самое пестрое, разнообразное и чрезвычайно любопытное: лица молодые и свежие, старые и безжизненные, белые и румяные, смуглые, желтые и бледные; а глаза, волосы, прически, шляпы, токи; богатые плащи и камзолы и платье совсем бедное…
Не меньше людей и на бульварах, набережных, на Сен-Лорентской ярмарке, продолжавшейся в тот год дольше обыкновенного на площади Эстрапад, где по случаю празднества паяцы, фигляры, арлекины и фокусники забавляли публику своими представлениями. Право, нельзя вообразить, чтобы такое множество народа, что вся эта масса жила в одном городе.
А взору, устремленному вдаль, представлялся вид необыкновенный, в особенности с Нового моста. Отсюда, если смотреть на Сену, разделяющуюся на два рукава около центральной части города, открывалась восхитительная картина на четырех берегах реки, обратившихся в черную полосу. Огромный людской поток беспрестанно прибывал со всех сторон, направляясь к Лувру: таким образом все избегали огибать набережные, почти так же непроходимые из-за толпившихся любопытных. Тихие воды Сены струились мелкими рябинами, отражая светлой, волнистой полосой лучи солнца. По ним плыли сотни лодок и катеров разных размеров, нагруженных богато одетыми пассажирами, которые в знак своего одобрения и торжества ради махали в воздухе разноцветными лентами и лоскутами. На сопровождавших маленьких челноках помещались музыканты. Вся эта флотилия беспрестанно проходила под мостами, устроенными на довольно близком друг от друга расстоянии на двух рукавах реки. Но вот все, что плыло, причаливало к берегу, и тогда пассажиры и лодочники обменивались радостными приветствиями и громкими возгласами – каждому не терпелось поделиться своей радостью. После этого, с музыкой и радостными криками, раздававшимися со всех сторон, отправлялась далее. Так ликовали парижане по случаю неожиданного рождения у короля сына – теперь, кажется, наступит конец междоусобным войнам. За это счастье приносили благодарение Богу, королю, королеве и Святой Женевьеве Нантерской – перед ней так часто и усердно молилась Анна Австрийская, просившая даровать ей сына; благодарили и духовенство, которое, без сомнения, долго молилось о таком событии; но никому, конечно, не пришло в голову воздать должное мадемуазель ла Файетт!
На левом берегу реки, по ту сторону Неверского отеля и городских садов, а также Нельской заставы, от которой были проведены новые улицы на месте, занимаемом прежде посадом Пре-о-Клерк, показывались разные шествия: длинные процессии духовенства из трех приходских церквей; депутации яковитов и капуцинов; разутых кармелитских монахов и английских бенедиктинцев. Все они шли во дворец приветствовать королевского сына: ему всего несколько дней от рождения, и его специально привезли из Сен-Жермена, где он родился, чтобы показать доброму народу. Далее следовали ремесленные цехи со значками и флагами, развевавшимися по ветру. Тут много чего наблюдалось занимательного: каждый из виноторговцев нес в подарок новорожденному принцу кубок граненого хрусталя, украшенный лилиями и наполненный благородным вином, произведением главнейших виноградников Франции; типографщики, в сделанных из бумаги картузах на головах, водрузили на бархатную подушку часовник в богатом переплете, приготовившись прочитать наизусть перед крошечным дофином оду господина Коллете, заседавшего во Французской академии; наконец, королевские скрипачи намеревались играть перед окнами покоев, где помещался новорожденный.
На набережной Малаке виднелась длинная многоцветная полоса, составленная из толпы народа; масса двигалась к деревянному мосту Барбье, вблизи которого находился прежде большой паром для перевоза с одного берега на другой придворных, отправлявшихся в Лувр, или стад, перевозимых на пастьбу в поле Красного Креста.
В то время с Нового моста была проведена улица Бон, которая вела прямо к Тюильри. Сначала, кроме флагов, значков, знамен и церковных хоругвей, развевавшихся по ветру, дувшему на юго-восток, по течению реки, ничего не было видно; потом суматоха и волнение в народе еще более усилились.
Предшествуя экипажам, отправившимся из Лувра, королевские мушкетеры, французская и швейцарская гвардия шли по мосту в то же время, когда духовенство и городские цехи – неимоверное смешение касок, капюшонов, шляп и бумажных картузов; выше толпы, в воздухе, – пики, алебарды, флаги, знамена, кресты и украшенные галунами шапки кучеров, сидящих на высоких, выше всех козлах.
Наконец, пестрая, разноцветная толпа стала суживаться, выравниваться, приходить в порядок, образовывать ряды, и старый Луврский дворец, к которому вся эта масса двигалась, опустил перед ней свои подъемные мосты. И в то время, как она тихо, безмолвно, с почтением вступила процессией в огромный двор Лувра, другая, навстречу ей, вышла из него с шумом, гамом и криками радости – ей уже привелось видеть новорожденного – и направилась обратно к Новому мосту, чтобы приветствовать громким «ура!» бронзовую статую Генриха Великого: украшенный цветами и блестя от солнца, он, казалось, радовался вместе со всеми своему внуку.
Новый мост представлял зрелище, также заслуживавшее пристального внимания. Он был обычно главным центром, где собирались многие и разные люди: торговцы аптекарскими и москательными товарами, мелкие продавцы эликсира и «симпатичного» порошка (он был в то время в большой моде), изобретатели всецелебных лекарств, зубные врачи, все великие медики – самоучки. Сюда сходились и певцы рождественских славословий, песен религиозных и светских, фигляры, плясуны, уличные комедианты, фокусники, а с ними и толпы зевак, готовых любоваться хоть каким зрелищем.
Горе провинциалу, если приехал он в то время из Пуату или Сентонжа и очутился среди этого шумного сборища, где так легко его отличить по боязливой походке, глазам, беспрерывно озирающимся во все стороны, по шляпе с кургузыми полями или подстриженным усам. Скоро становился он предметом всеобщего внимания и насмешек, и наиболее искусные площадные лекаря овладевали им как добычей для своих опытов. Тогда ему, как бы возведенному в звание ученого, приходилось отведывать всевозможные сорта эликсира; на платье его уже не было пятен: их вычистили, растирая особым составом (тоже изобретение) – очистительным камнем, имеющим свойство выводить пятна с материи. Шляпа его выглядела совсем как новая от химической воды, изобретенной в то время и называвшейся «жуванской водой». Ну а имел он во рту сомнительный зуб, так, хорош или худ, его выдергивали под крики удивления толпы. Хорошо еще, когда бедный провинциал терпел только от уличных шарлатанов и выходил из толпы без дальнейших приключений, не ограбленным зрителями. Ведь в то время воровство было ремеслом не одних нищих бродяг, но и дворян с той разницей, что первые воровали из нужды, а вторые – для собственного удовольствия. (А что, не делается ли того же и в наше время – в наш образованный девятнадцатый век?)
К вечеру того же дня многолюдная столица, устав кричать, плясать, веселиться и радоваться, замолкла. Слышался только какой-то однообразный гул, по временам прерываемый громкими криками не угомонившихся еще пажей, учеников и подмастерьев. Темнота ночи, что упала на город, рассеивалась светом догоравшей иллюминации или факелами лакеев, которые сопровождали кареты своих господ, – те, выехав из Лувра, возвращались домой. Наконец, уже поздней ночью в городе наступила глубокая тишина: нигде не слышалось шума экипажей, запоздалые гуляки разбрелись уже по своим жилищам; весь Париж спокойно спал.
На месте, где полвека спустя появилась площадь Победы, возвышался в то время великолепный, окруженный другими дом ла Ферте Сенектеров; красивый подъезд украшен богатым гербом герцогского достоинства – на широкой мантии голубой щит с пятью серебряными ветками.
В одной из комнат этого дома – противоположные улице окна выходили в роскошный двор, а углом на маленькую улицу – две женщины в эту самую ночь, обложившись мягкими подушками в широких креслах с высокими спинками, разговаривали перед затопленным камином.
У старшей лицо уже немолодое, продолговатое; живой взгляд выражал веселость, несколько умеряемую привычкой к набожности. Распустившаяся прическа, широкий, из генуэзского шелка капот с большими цветами, босые ноги в суконных туфлях – все свидетельствовало, что она у себя дома, забыла про поздний час ночи и давно ожидавшую постель.
Другая, молодая, со свежим лицом, красивая, можно даже сказать – красавица, еще одетая по-дневному, наряженная, в косынке в стиле Медичи, с жемчужными украшениями на голове – мадемуазель д’Отфор, фрейлина, наперсница королевы, первая из тех, кто избран сердцем короля. Очень поздно покинула она Лувр, где не нашла себе комнаты дли ночлега (весь дворец наполнен множеством докторов, нянек, мамок и т. п.) и приехала ночевать к своей приятельнице, отчасти родственнице герцогине ла Ферте. Задушевный, дружеский разговор, не давая спать, удерживал их перед камином. Предметом беседы были различные события, происходившие в тот день в Луврском дворце.
– Что же сказал король городским общинам? – продолжала герцогиня.
– Король, – отвечала мадемуазель д’Отфор со свойственными ей откровенностью и шутливостью и приняв по привычке насмешливый тон, – сказал одним, как бы в отплату за их блестящие обещания: «Сделайте это, и я буду для вас добрым королем». Другим: «Пусть так, и надейтесь, что… буду я для вас добрым королем». Этим: «Продолжайте действовать по-прежнему, и… я буду для вас добрым королем». Тем… – свою обычную и вечную формулу: «Держите себя благопристойно, платите исправно оброки и подати, и будет вам хорошо». – При этих словах она громко расхохоталась.
Герцогиня намеревалась последовать примеру подруги, но удержалась и приняла важный вид.
– Вы не скромны, дитя мое. Неужели вы так скоро забыли добрые наставления аббата Сен-Сирена? – И с умилением подняла глаза на небольшой портрет аббата, висевший над камином.
– Я сказала истину, герцогиня, и повторила только, слово в слово, нечто из речей его величества.
– Да… но вы говорите про короля тоном, ясно показывающим вашу злобу на него. Его величество перестал оказывать вам прежнее внимание, и вы негодуете.
– Совсем нет, клянусь вам! – возразила хорошенькая фрейлина, немного обидевшись на такое замечание. – Его благорасположение никогда не было для меня полезным, я не видела в нем особенной выгоды – ни для себя, ни для своих близких и родственников, – а довольствовалась только некоторой продолжительностью его. Правда, что король был в то время близок мне, даже очень близок… и слова его действовали не на один мой слух, но и на сердце.