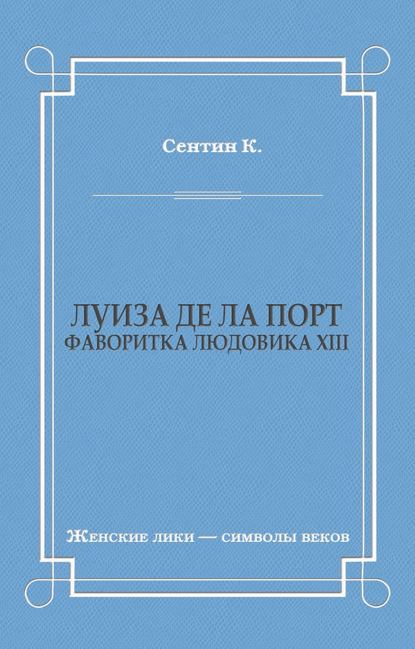По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Луиза де ла Порт (Фаворитка Людовика XIII)
Автор
Год написания книги
1846
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Здесь, в этой комнате? О, помню! Мне не забыть, как вы меня все заставляли держать вверх руку. Работа вчерне, но саму картину вам надо было рисовать на месте. Она на дереве, рисовалась в рамке, а рамка вделана в стену, знаю – не вы ли сами мне это сказали? Вы обошлись и без меня. Кто же служил тогда вам моделью?
Лесюёр, смущаясь все более, удерживался от ответа – боялся, что в его голосе прорвется волнение.
– Если вы изменили мне, – продолжала она, – это нехорошо, очень нехорошо! Вам ведь известно – Жанна готова руку себе отрезать и вам послать, если вам нарисовать ее надо, а меня нет, что-нибудь задержало в квартире отца.
– Знаю, Жанна, вы предобрая девушка, – произнес Лесюёр протяжно и вполголоса – все по той же причине.
Удивленная такой странной интонацией, девушка встала и взглянула на него: да у него щеки горят, чем-то сильно взволнован…
– О боже мой! – Она сложила руки крест-накрест и подняла взор. – Так это правда, вы взяли вместо меня другую?! Я не красавица, не так хороша, знаю… но ведь если надо, вы в силах сделать меня красивее… Неужели надо быть Венерой, чтобы тебя изображали на холсте? И скажу вам, что ни от кого еще не слыхала упреков – могу похвастать пред всеми красавицами! – Она помолчала чуть-чуть. – Но не будем более об этом, господин Лесюёр… вижу, вы начинаете уже сожалеть… Знайте же: если вы меня ждете, а сам король, который тоже любит живопись, предлагает мне три золотых экю, чтобы нарисовать мой мизинец – он у нас называется обыкновенно «сердечным» пальцем – так я ответила бы королю: «Нет, государь, я натурщица живописца Лесюёра, мне сегодня нужно к нему идти!»
Жанна говорила откровенно, чистосердечно; вынужденная избрать себе столь низкий род ремесла, она хранила в добром, неопытном своем сердце высокое чувство преданности и всегда была признательна молодому художнику, единственному, возможно, человеку, кто неизменно ласков с ней и почтителен.
Отец ее, родом из Брабанта, мастер лепных работ, удостаивался похвал художников за свое искусство; признавали в нем большой талант и содержатели питейных домов, где тратил он все деньги, получаемые за работу. Человек дурной нравственности, не прочь был бы пустить дочку в разврат, но Жанна оставалась до сих пор благоразумной.
Последние слова девушки подействовали на Лесюёра, и он поблагодарил за доброе расположение к нему. Видя ее нетерпение – за что-нибудь приняться, быть чем-то полезной, – попросил:
– У вас еще в руках иголка, Жанна… почините, прошу вас, мой черный камзол – разорвал немного на левом плече.
Нашел ей занятие – теперь никто не помешает ему снова погрузиться в свои думы. Жанна, очень довольная, что ей поручено исполнить дело хозяйки, возвышавшее ее в собственных глазах, встала, сняла со стены камзол и с веселым видом возвратилась к своей маленькой скамейке. Но не прошло и пяти минут, как снова принялась задавать вопросы художнику – ведь у камзола рукав насквозь прорван и на подкладке пятна крови…
– Ах, что это, что с вами приключилось? Боже мой, вы ранены в плечо?! Кем, как?.. Разве камзол можно так изорвать каким-нибудь гвоздем?
Молодой художник, упоенный воспоминаниями о своем счастье, не отвечал ни слова. Удивленная его молчанием, Жанна подумала – посмеяться хочет над ее беспокойством… оперлась рукой о пол и с любопытством нагнулась вперед, за столик, – он все сидел перед ним. О, глаза его полузакрыты, на губах легкая улыбка… если и думает о ком, то наверняка не о ней. Потревоженный опять в своих мечтаниях, Лесюёр быстро опустил подставку с картиной, – став ниже, она отняла у любопытной девушки возможность рассмотреть внимательнее его лицо. Поняв, что это движение сделано не без причины, Жанна почувствовала какую-то неясную тоску, медленно отодвинулась назад, подперла голову руками и тоже задумалась…
Но не надолго оба погрузились в раздумья, тотчас возникла новая помеха – де Марильяк. Успев хорошо узнать характер Лесюёра, он первый пришел к нему с визитом и назвал своим новым другом. Надо подобающе принять благородного посетителя – и Лесюёру пришлось вернуться к действительности: быть может, мыслями он возносился до небес, но, увидев столь необычного гостя, поневоле спустился на землю.
Де Марильяк осведомился прежде всего о последствиях полученной Лесюёром царапины и промолвил несколько дружеских слов. Потом осмотрел мастерскую: восхищался произведениями гениальных художников; высказывал свои мнения о всех обозреваемых вещах; проявил себя большим знатоком мушкетов, древних ружей и смеялся что было сил при виде массы платьев и уборов – переворачивал их на все стороны и, потешаясь, более четверти часа примеривал то и другое. Последнее, на что обратил внимание, – Жанна ла Брабансон.
– А это что? – И бросил на Жанну снисходительный взгляд. – Вот этот предмет по крайней мере одушевленный… охотно отдал бы ему преимущество перед всеми прочими. Это также принадлежит вам, Лесюёр?
По ответу художника Марильяк угадал, с какой девушкой имеет дело. Первая мысль его, конечно, была откинуть все правила и позволить себе вольное с ней обращение… Он подошел к ней слишком близко, взял без церемоний ее руку и хотел обнять за талию. Жанна решительно оттолкнула его – с какой стати с ней обращаются подобным образом, да еще при Лесюёре! Мгновенно она почувствовала сильнейшее отвращение к этому типу; к тому же по его словам поняла, что он противник Лесюёра и виновник его раны.
– Уж не дама ли вы высокого полета? Какие мы, подумать только, недотроги! – насмешливо молвил Марильяк. – А что, разве наш приятель не платит вам за сеанс так же точно, как какой-нибудь подрядчик – своим работникам? Гм, клянусь чепчиком моей бабушки, в ваших движениях лишь одна тридцать вторая благородства… и шестнадцатая во взгляде.
– Если мне и платят, так только за то, как я выгляжу, за мою наружность, – парировала Жанна, обиженная этой беспардонностью. – Ни за какие тысячи не позволю я такому, как вы, прикасаться ко мне… тронуть хоть за волос!
– Отлично! – Марильяк несколько поутих. – Да, волосы у вас длинны, черны, роскошны… ничего не скажешь! И помнится, где-то я их недавно видел… Ах, моя милая, что уж тебе прикидываться перед тем, кто с тобой вместе веселился нынче на пирушке!.. Разве забыла ты уже все, что познала в эту ночь у…
– Вы лжете! – воскликнула ла Брабансон и гневно сверкнула на него глазами. – Это ложь! Чистая ложь!..
– Жанна, Жанна, – стал Лесюёр урезонивать девушку, – помните: вы говорите со знатным дворянином, и он у меня, под моим кровом!
– Да я ничуть не намерен козырять здесь своим дворянством! – прервал его Марильяк, рассмеявшись. – Эта красотка веселилась вчера в компании молодцов куда как важнее меня. Чего только не крутилось на этой пирушке! И песни, и шуры-муры, и обнимания, и целования… Вам также, моя милая, думаю, досталось, а? Что скажете?
– Ах, боже мой! Он лжет, ужасно лжет! – повторяла Жанна, вся покраснев и дрожа от волнения.
Взор ее, обычно томный и нежный, горел гневом, и девушка в горячке обиды и нетерпения переводила его то на Лесюёра, то на Марильяка. Пуще всего боялась она, что Лесюёр, имевший о ней всегда столь положительное мнение, поверит словам этого лгуна – своего нового приятеля.
– Это девушка хорошей нравственности, – Лесюёр стал между Жанной и Марильяком, – она…
Но, заметив, что тот улыбается иронически, вдруг замолк – то ли устыдился, что защищает девушку происхождения вовсе не высокого, то ли не желал показаться человеку, привыкшему к придворным нравам, смешным по той причине, что легко верит в добродетель женщин; потом прибавил голосом уже менее твердым:
– По крайней мере я так думаю… Положим, вы действительно встретились с ней в эту ночь в обществе гуляк… но можете ли упрекнуть ее в чем-то худшем?
– Как, он верит! – вскричала Жанна со слезами на глазах и таким голосом, что даже сам Марильяк был тронут.
– О нет, память мне изменила, мои глаза ошиблись! Я не видел этой девушки! Посмотри-ка, Лесюёр, как делается она мила, когда досада и гнев волнуют ее сердце! Ну не сердись, Жаннета, я лгун, негодяй, я обидел тебя… Ну не сердись, не обижайся – я ошибся! А она ведь славная… что ты скажешь, брат Лесюёр? – И при этих словах хотел прижать Жанну к груди.
– Твои волосы так хороши! – распинался он. – Мог ли я ожидать, что увижу такие волосы… подобные им вряд ли где можно встретить! Но всякая обида требует вознаграждения… говори – чего ты от меня хочешь? Охотно отдал бы тебе мое состояние… если бы не расточил его. Что касается женитьбы – ну, об этом нечего и думать! Мое сердце было всегда свободно… и теперь оно в полном твоем распоряжении!
Говоря таким образом, Марильяк снова обхватил Жанну за талию. Вырвавшись из его рук, девушка – в сильнейшем негодовании, со слезами на глазах – приблизилась к Лесюёру и заговорила горячо и прерывисто:
– Я всю ночь провела в своей квартире, возле отца… повторяю, – этот человек лжет! – И с воспламененным взором, разрумянившимся лицом презрительно указала дрожащей рукой на Марильяка. – Конечно, вы не поверите моим словам, или, скорее может быть, вам все равно, верить или не верить тому, что вы слышите. Я бедная девушка, сирота, и вы столь же обо мне заботитесь, сколь швея об изломанной иголке, – вижу! Я сама только могу себя защитить и искать себе оправдание – и я это сделаю! Этот клеветник будет изобличен во лжи – не мною, нет, а кем-то другим!
Махнув рукой, Жанна скорыми шагами подошла к стене, сняла с гвоздя свой капюшон, закрыла им голову и плечи и, не сказав более ни слова, оставила мастерскую.
Все это время Лесюёр и Марильяк не прозносили ни слова – дали волю девушке говорить все, что ей угодно. Марильяк собрался было остановить Жанну – напрасно: она уже исчезла за дверью… Оба взглянули друг на друга: один – с удивлением, другой – с улыбкой.
– Кажется, мадемуазель не пожелала принять мои извинения, – установил Марильяк. – А смеюсь я не потому, что доволен своей выходкой… так, по привычке. Во-первых, быть может, я и виноват… знаю, нехорошо доводить до слез правого. Во-вторых, девушка эта немного сумасбродна – люблю таких. Наконец, если вы принимаете в ней живое участие, так ни за что уж не стану волочиться за нею, ибо начало нашей дружбы следует ознаменовать поступками благородными.
Лесюёр никому еще не признавался в своей недавно возникшей любви. Но для того ли, чтобы уверить Марильяка, или по легкомыслию либо по увлеченности своей, или, наконец, в ответ на расположение, выказанное ему новым другом, он вскоре открыл ему свою тайну – стал рассказывать о той страсти, что уже более месяца поселилась в его сердце, о девушке (не называя, однако, ее имени), которую так сильно любит. Он увлекся рассказами о ней и, побуждаемый любовью, долго еще говорил бы, но сильный шум послышался на лестнице и заставил его замолчать. Дверь в мастерскую отворилась, и вошла Жанна, держа за руку человека, которого скорее тащила, чем вела, так он запыхался. Этот человек, без шапки и камзола, с грубым взглядом, с бородой и бровями, выпачканными гипсом, был ее отец. Чтобы отыскать его, она помчалась сначала на свою квартиру, потом бегала из одного кабака в другой и наконец нашла его в винном погребке на улице Монмартр, в обществе таких же гуляк, как он сам. Несмотря на сопротивление его товарищей, почти насильно увела с собой – надо как можно скорее идти с ней к живописцу Лесюёру; он и пришел, изумленный, не зная, зачем его туда ведут.
– Вот мой отец, – представила Жанна. – Клянусь моей честью, что ни о чем его не предупреждала, он не знает, что здесь происходило. Будь я проклята, если лгу! Спрашивайте его!
– Позвольте, минуту… – возразил отец, – дайте мне вздохнуть, я задыхаюсь от жажды и жара…
Мадам Кормье, чтобы узнать причину такого шума, поднялась по лестнице, вошла к Лесюёру и остановилась в дверях, изумленная при виде Жанны и беспорядка, причины которого не могла себе объяснить.
– Эх, матушка, попросил бы я у вас стаканчик вина! – сказал Брабанте, увидев ее.
Толстая мадам Кормье воздела глаза и руки к небу, сошла вниз и более не показывалась.
Видя, что ему ничего не подносят, старик утолил жажду надеждой вернуться в кабак, как только выйдет от Лесюёра.
– Так зачем же меня сюда звали? – спросил он, поникнув головой.
– Спрашивайте его! – повторила Жанна, обращаясь к Лесюёру. – Спрашивайте его про меня!
– Вот в чем дело, – начал Марильяк, поклонившись Брабанте с насмешливой вежливостью, – я ошибся насчет вашей дочери и во всеуслышание прошу у нее извинения. Я признаю ее нравственность, благоразумное поведение… эта девушка мила, грациозна, привлекательна… Совершенно в моем вкусе, и я от чистого сердца предлагаю ей здесь, в присутствии всех, помириться со мной поцелуем!
– Что ж, и прекрасно, если только через поцелуй вы поладите друг с другом! – Брабанте удивился – так издалека его привели сюда, только чтобы показать ему, как целуют его дочь. – Но кто вы, господин военный, – я вижу у вас шпагу и потому так называю… впрочем, нынче всякий носит шпагу… так уж заведено. Нельзя, право, и отличить дворянина от простолюдина, другой раз не знаешь, с кем говоришь… А прежде этого не бывало – простого так сразу видно, благородный сам себя выказывает.
– Так как вы хотите знать, кто я, – отвечал Марильяк, – то скажу вам, что меня зовут Марильяком.
– Марильяк… кавалер де Марильяк! Племянник маршала, так? О, я хорошо знал вашего дядю, сударь, правда, познакомился с ним уже в то время, когда он умер. Я, изволите знать, долго держал его голову в своих руках, потому что снимал с него слепок… Мастер Гонен мне не раз доставлял такую работу.
Гонен был когда-то известнейший в Париже шарлатан, простой народ называл его именем кардинала Ришелье.